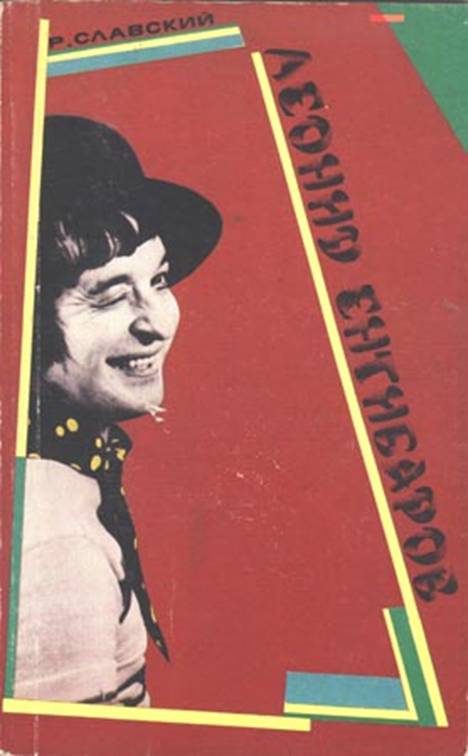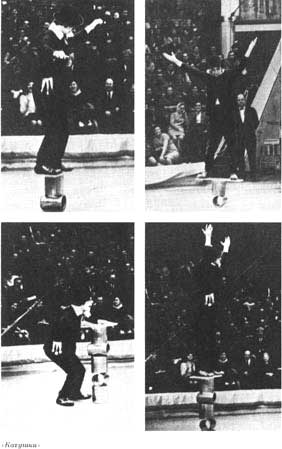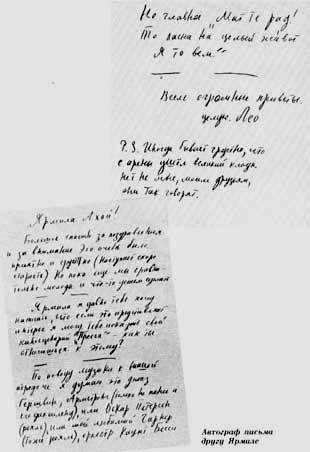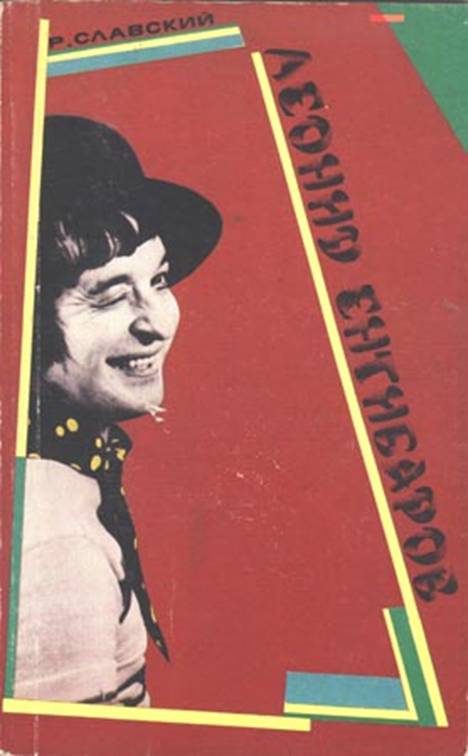
ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ
Большой Клоун
Каждый, новый этап в жизни цирка ознаменован появлением большого клоуна. В
русском дореволюционном цирке это братья Владимир и Анатолий Дуровы, Иван
Радунский и Сергей Альперов.
У истоков советского цирка стояли Виталий Лазаренко и Леон Танти, в 30-е годы —
Карандаш, в 50-е — Олег Попов, Юрий Никулин и Андрей Николаев, в 60-е — Леонид
Енгибаров.
Можно назвать еще с десяток артистов прошлого и настоящего, наделенных
комедийным даром: в манеже смешны, сильны по трюковой части, располагают
обширным репертуаром, иные стали популярны. Однако этим высоким эпитетом —
«большой клоун» — их не почтишь. Почему? Да потому, что нужна сумма таких
художественных достоинств, которые образовали бы Мастера с большой буквы.
Какими же признаками характеризуется искусство большого клоуна?
Прежде всего он ни на кого не похож, никому не подражает. Отец русского цирка
Аким Никитин, в прошлом замечательный комик, говаривал: «Большим клоуном можно
стать, только когда на этой профессии для тебя свет клином сошелся и ты ее ни
на какое богатство не променяешь...»
Итак, каков он, большой клоун? Это прежде всего яркая творческая
индивидуальность с остро развитым комедийным мышлением, собственным почерком и
собственным исполнительским стилем. Большого клоуна, как во времена Анатолия
Дурова, так и сегодня, отличает масштабность раздумий, свежесть и разнообразие
только ему присущих выразительных средств: красок, приемов и ритмов. Комический
дар большого клоуна исключительно действен. Вызывать смех и быть смешным — одна
из главных его задач; он хорошо ориентирован в смеховой технике, виртуозно
владеет ее хитрыми пружинами и рычагами, до тонкости знает механизм их
взаимодействия.
Большой клоун — всегда человек многогранный, живущий в мире высоких чувств и
высоких целей. Характеризует его также и причастность к современности,
способность тонко чувствовать ее и воплощать в своем искусстве специфическими
средствами.
Немаловажна еще одна черта, присущая большому клоуну,— личная притягательность
или «манкость», как определил ее Станиславский. В обществе актера, наделенного обаянием, публике, даже если она и не отдает себе в этом отчета, всегда интересно и тепло, как бывает интересно с общительным и содержательным собеседником. Непременным свойством большого клоуна является также способность самозабвенно трудиться. Каждый номер такого артиста выношен сердцем, рожден в творческих муках, потому и находит кратчайший путь к зрителю. Выдающийся клоун создает оригинальную маску и оригинальный репертуар, он необычайно взыскателен
к себе и никогда не снизойдет до подражания, каким бы заманчивым ни был
образец.
Он всегда новатор и потому энергично влияет на содержание клоунады и ее форму.
Воздействие его творчества так велико, что весь смеховой жанр получает
поступательное движение. Именно таким мастером стал и Леонид Енгибаров.
Несмотря на молодость, дебютант довольно скоро проявил богатство жизненных
наблюдений, запасы доброго юмора, обилие удачных находок и, более того —
собственную, отличную от других клоунов, эстетическую позицию.
Наблюдать за Енгибаровым на арене было интересно еще и потому, что в его
сценическом поведении, в его доверительной непосредственности угадывалась
незаурядная личность, тонкий художественный вкус, высокая духовность,
Наделенный от природы острым восприятием жизни, собственным взглядом на мир,
свежим и цепким, он способен был видеть в обычном необычное, в будничном —
праздничное, в повседневном — прекрасное и забавное и воплощал увиденное в
свежих, нештампованных образах. К тому же он обладал сильнейшей, почти
магнетической, сценической притягательностью. Вступая в манежное кольцо, клоун
действовал с такой эмоциональной отдачей, что сразу же воспламенял сердца
зрителей. Способность мгновенно устанавливать контакт с публикой, сближаться с
ней и подчинять ее себе у этого артиста была поразительной. Чувствовалось, что
и ему самому было интересно и весело колобродить на арене, дурашливо балагурить
и проказничать.
Он был неутомим в поисках новых средств выразительности, постепенно усложняя
механизм комического, стремился к многоплановости интермедий. Вся его
творческая жизнь — это эксперименты, пробы, раздумья, ошибки и снова пробы и
эксперименты. Он проявил себя настоящим разведчиком нехоженых путей в искусстве
смешного, смело перешагивал через каноны, нарушал традиции.
Добродушный юмор, тонкая ирония, эксцентрические переосмысления, гармонично
сплетенные с национальной орнаментикой смеховой культуры армянского народа,—
вот любимые краски этого художника, утвердившего па манеже собственный стиль
клоунады.
Подобно тому, как в музыкальной эксцентрике существовал стиль Бим-Бомов, в
сатире с дрессированными животными — стиль братьев Дуровых, в цирковой
публицистике — стиль Виталия Лазаренко, так в работе коверного Леонид Енгибаров
утверждал стиль лирико- философского комизма, обретший немало сторонников и
последователей.
Он создал художественную модель новой клоунской интермедии. Енгибаровские
интермедии представляли собой гармоничное единство глубокого содержания и
оригинальной формы, они вобрали в себя смысловую и эмоциональную наполненность;
в сущности, это были обобщенно-философские высказывания о жизни при помощи
специфических выразительных средств.
Леонид Енгибаров вошел в историю цирка как ярчайший представитель философской
клоунской пантомимы. Рано поднявшись на вершину славы, этот талант крепко
приковал к себе внимание прессы. О нем много написало, многое он сказал о себе
сам в книгах, статьях и бессчетных интервью.
«Уйдя из жизни в тридцать семь лет, он остался загадкой». Это высказывание
принадлежит не менее знаменитому клоуну — Юрию Никулину. Почему же загадкой?
Что автор имел в виду? Творческую незаурядность Енгибарова-комика, который по
определению того же Никулина «в молодые годы стал звездой первой величины»? Или
его особый юмор, основанный на непривычной для цирка лирике,— юмор,
перевернувший все представления о клоунаде?
Вокруг имени Леонида Енгибарова, как это часто бывает со знаменитостями,
наслоилось множество удивительных легенд, в большинстве своем взаимоисключающих
одна другую.
О Енгибарове много написано и сказано. Но каждый, кто общался с ним, видел его
по-своему. Мне доводилось слышать самые несхожие мнения о нем — от «весельчака»
до «ипохондрика». Так, известный актер театра и кино Анатолий Папанов воспринимал
Енгибарова как «смешного и трагического клоуна». С ним решительно не соглашался
главный режиссер Московского цирка Марк Местечкин: «В облике и характере
созданного им героя,— писал он в своих мемуарах,— я не усматриваю... трагизма».
А писателю- юмористу Виктору Ардову коверный в полосатой майке виделся
меланхоликом. «Енгибаров появляется,— читаем у Ардова,— в маске меланхолика: он
грустен, двигается не спеша, выглядит разочарованным». Известный скульптор Л,
Кербель, принимавший участие в обсуждении проекта памятника Енгибарову, держа в
руках бронзовую статуэтку клоуна под зонтом работы Г. Д. Распопова, сказал: «А
я бы все решил по-другому. Я знал этого артиста и любил. Он кто? Он — мим,
эксцентрик, жонглер. Вот и пусть бы из рук у него вылетал каскад шариков.
Памятник эксцентрику должен быть таким, каким и был этот человек на
манеже—веселым...» «Веселое на первый взгляд, а в глубине своей грустное и
одинокое сердце Леонида было велико, как сердце бога»—это уже слова Ивана
Штедри, известного чехословацкого поэта, автора песий «Клоун из Еревана».
Так каким же он был на самом деле, Леонид Енгибаров, актер и человек?
Детство и юность
Детство решительно не уходит от нас.
Оно всегда с нами,
оно всегда возвращается к нам
Ролан Быков
Леонид Георгиевич Енгибаров родился в Москве 15 марта 1935 года.
Всякий раз, когда мне случается проезжать по широкой, выпрямленной
Шереметьевской улице, ныне сплошь застроенной новыми зданиями современного
облика, я не премину пристально вглядеться в то заветное место, где еще так
недавно стоял в ряду деревянных домишек, окруженных зеленью, невзрачный
флигель, в котором прожил большую часть своей короткой, но такой блистательной
жизни Леонид Енгибаров.
Марьина роща, Двенадцатый проезд, дом № 22-Б, квартира два. Мне приходилось
бывать в этом гостеприимном доме, изведать радость общения с его милыми
обитателями. Здесь проведен не один час и не один вечер в разговорах с Леонидом
Георгиевичем, здесь довелось участвовать в шумных, веселых дружеских застольях
и в семейных торжествах. По этому адресу я отправлял письма; сюда — в
отсутствие хозяина дома — приводили меня литературные заботы. Незабываемы
беседы с его матерью Антониной Андриановной и тетей — Евгенией Андриановной.
Разговоры неизменно вращались вокруг одной и той же оси — Ленечкиных дел, его
забот, его успехов. Да, конечно, Ленечка был единственным светом в окошке для
этих женщин. В доме на всем лежала печать обожания и гордости за сына и
племянника. Неприкосновенной оставалась в периоды долгих гастролей его комната,
самая большая в квартире, стены которой были завешаны плакатами с изображением
знакомой фигуры в полосатой спортивной фуфайке, с дырявым зонтом в руке. Вокруг
на застекленных полках и стеллажах, тесно уставленных книгами,— нагромождение
сувениров, призов, которыми отмечено высокое мастерство актера. Отдельно на
столике хрустальная ваза — первая премия Международного конкурса юмора в Праге
(1965).
Во времена детства нашего героя уже не было той прекрасной зеленой рощи,
которая некогда вплотную примыкала к деревне Марьино и дала в XVIII веке
название этому месту. Район сохранял черты старой рабочей окраины. Жили здесь
невероятно скученно. Двор дома номер 22-Б был плотно, чуть ли не стена к стене,
застроен деревянными флигелями. Хотя и в тесноте обитали люди, но бодрости не
утрачивали, славились своим веселым, общительным характером, вероятно, еще не
выветрился живой дух былого. Ведь, по утверждению «певца старой Москвы,
писателя М. Н. Загоскина, на территории Марьиной рощи когда-то было «в семик
одно из лучших годовых московских гуляний». — Вот уж кто не был пай-мальчиком,—
говорит о своем племяннике Евгения Андриановна,— а рос отчаянным сорванцом, так
это Леня. Отца частенько вызывали в школу и жаловались, что сын его — заводила
и своими озорными проделками будоражит других. И вместе с тем, учился хорошо по
всем предметам. Но больше всего любил литературу: всегда приносил пятерки.
Нередко его классные сочинения читались вслух.
Не тогда ли проклюнулось в мальчишеской душе зерно литературного творчества?
Питательной почвой для этого явились два сильных увлечения Леонида — книги и
кино.
К чтению мальчик пристрастился очень рано. В этом смысле большой интерес для
нас представляют воспоминания Евгении Андриановны, учительницы по профессии:
«Нередко он донимал меня просьбами почитать что-нибудь вслух. Любил, и когда я
пересказывала содержание книг. Бывало, шагает со мной пешком аж до самого
Бутырского хутора (там у меня в годы войны, как и у многих москвичей, был
огородик) — лишь бы послушать «Витязя в тигровой шкуре». А ведь лет-то ему —
всего ничего. Помогал сорняки полоть, окучивать. Присядем передохнуть, а он:
«Ну, дальше, дальше...» Возвращаемся домой и опять: «А что потом было?..»
Библиотекарей мальчик расположил к себе жадной тягой к чтению и недетскими
суждениями о прочитанном. Когда в руки к нему попадала интересная книга, мог
легко забросить и дружков и озорство. Бывало, только переступит порог районной
библиотеки, а из-за стойки уже слышится: «А-а, Леня, есть для тебя кое-что
новенькое...» Новенькое — это книги о странствиях на кораблях, о подводных
лодках, о сражениях в океане и о дерзких набегах корсаров — словом, обо всем,
что связано с морем. Крепко засела в его голову мечта стать моряком. И не
просто членом команды, а капитаном. И не иначе.
Во время войны районная библиотека в Марьиной роще была небогата. И дома у
людей еще не скопилось таких, как сегодня, основательных собраний. Книги
ненасытному юному читателю доставали и мать и тетя Женя. Бывало, всех знакомых
опросят — нет ли чего интересного почитать? «Помню, приходит мама однажды такая
счастливая,— рассказывал мне Леонид Георгиевич,— и вынимает из сумки две книги:
«Смотри, милый, что я тебе достала». Это были «Овод» и «Серебряные коньки». Я
их за одну ночь проглотил».
По словам Евгении Андриановны, учился он у героев Руставели, а позднее у героев
Войнич, Джека Лондона, Ж юля Верна, Марка Твена. «Это они дали ему упорство,
трудолюбие, характер».
«Детство мое было трудным, ибо выпало на годы войны,— скажет Енгибаров
позднее.— Первое, что я узнал, был не хоккей, не футбол, не телевизор, а
война...».
В июле 1941 года шестилетний Леня эвакуировался в Рязанскую область (вместе с
тетей Женей, которая выехала со школой № 605, где работала учительницей). «Но
фашисты все приближались и приближались,— пишет она в письме ко мне.— И мы
решили, что дома все же лучше. В августе воротились домой. Пережили ночные
налеты вражеской авиации. А это очень страшно: прорвется какой-нибудь самолет и
бросает бомбы, воздух наполняется визгом, грохотом разрывов... Леня помнил траншею
во дворе, куда мы прятались от бомбежек, но ее вскоре залило водой, и мы бегали
через дорогу в подвал церкви «Нечаянная радость». Потом, как и все москвичи,
привыкли к бомбежкам и перестали прятаться...»
Впечатлительный мальчишка запомнил ямы от фугасок, аэростаты над Москвой,
витрины магазинов, заваленные мешками с песком, бумажные кресты на окнах,
очереди за хлебом, слышал вой сирен воздушной тревоги, военные песни, плач
соседей, получавших похоронки, видел живых фашистов — пленных, которых вели по
Москве...
Но дети оставались детьми. Даже в суровые военные годы, несмотря на трудности и
лишения, они не теряли присущей им жизнерадостности и находили повод для игр и
веселья. Двор кишел ребятней всех возрастов. Местным сорванцам было где
разгуляться: носись сколько душе угодно по окраинным пустырям, проникай через
тайные, только тебе известные лазейки в лабиринте дворовых переплетений.
Недалеко было и до Останкинского парка, казавшегося ребятне непроходимой
чащобой. Ну а уж коли попал в Останкино, разве минуешь его веселые пруды, такие
шумные от визга и хохота купающихся.
Рос мальчишка, в сущности, предоставленный самому себе. Отец весь день занят,
мать и тетя Женя обе обременены тяжелой работой, и потому никто ему «не докучал
моралью строгой».
...Отгремела война. И мечты о подвигах и о доблестной борьбе с морской стихией,
как это часто бывает в юности, сменились столь же страстной любовью к спорту.
Лыжи, затем старенький велосипед, на котором Леня целыми днями колесил но
улицам. Научился выделывать на нем такие трюки, что все диву давались: и без
рук и вниз головой, вращая педали руками.
Хорошо играл в футбол. Евгения Андриановна вспоминает: «Однажды Леня гостил у
наших родственников в деревне и там до того увлек местных пацанов гонять мяч,
что вся орава ни свет ни заря собиралась под окнами избы, терпеливо дожидаясь,
когда выспится их тренер и главный игрок».
К своим обязанностям юный капитан команды относился серьезно. Терпеливо
разъяснял деревенским партнерам правила игры, показывал приемы ударов по мячу и
пасов. Мяч, привезенный из Москвы,— подарок брата — был самый настоящий,
производства фабрики спортинвентаря, играть им — одно удовольствие. Перед
утренними тренировками двенадцатилетний капитан команды поддувал мяч насосом, а
после сыгровки бережно протирал мягкой тряпкой: уж очень дорожил подарком.
Деревенская жизнь Лене нравилась. Но вот однажды он случайно услышал разговор,
который не предназначался для его ушей. Родственники судачили о нем: целые дни,
как малое дитя, гоняет мяч по улице. И все местные озорники с ним. Прямо от рук
отбились. Никакой помощи от них не стало. А по вечерам без пути свет жжет:
книжки читает...
Городской родственник, исполненный чувства собственного достоинства, объявил,
что уезжает. Как же так, почему? Собирался до сентября погостить?.. Пора. Вышло
время. Надо готовиться к школе. И мама пишет, что сильно скучает...
Набил своими книгами чемодан, подхватился — н на станцию. А за ним вся ватага —
провожать. К чемодану прикоснуться не дали, по очереди семь километров тащили.
Поезда долго не было, все проголодались, но никто не роптал, ведь так интересно
слушать веселые истории, которые без умолку рассказывал московский приятель.
Когда состав приблизился к станции, Леня вдруг посерьезнел, умолк, повздыхал,
потом достал из чемодана мяч, бережно обернутый байковой тряпочкой, подержал
его и руках и решительно протянул — нате, играйте...
Притихшие ребята прощально махали другу, а тот, стоя на подножке, вдруг
спохватился, торопливо открыл чемодан и стал что-то искать в нем. Детвора
увидела в его руке насос. Он поднял его над головой и швырнул и траву...
Родители Лени к искусству не имели никакого отношения. Отец Георгий Сергеевич,
армянин по национальности, был поваром высокого класса, в последнее время
руководил кухней ресторана «Метрополь». Мать — портниха. Всем, кто был близко
знаком с Леонидом Георгиевичем, хорошо известна его привязанность к матери. О
чем бы ни повел он свою всегда чуть возбужденную речь, обязательно упомянет
Антонину Андриановну, женщину доброты и кротости необычайной. С годами сыновнее
чувство нисколько не остыло. После изнурительных дорог, после безликих
гостиничных номеров не было Леониду большей радости, как вернуться под родную
крышу их уютного флигеля с тесным палисадничком и раскидистым ясенем под окном,
предоставив себя в полное распоряжение хлопотливой материнской заботы.
Позднее он опишет в новелле «Здравствуй, дерево» радость своих встреч «со
старым добрым деревом» после долгих месяцев разлук: «Я снова здесь, я снова
приехал. Мы снова можем разговаривать с тобой, у меня от тебя нет секретов. Ты
же знаешь про меня все...» Да, конечно, ясень-старик знал Леню от первых дней
рождения и до той минуты, когда прославленный артист покинул флигель,
предназначенный на снос. Ясень видел его и в сером башлыке, запорошенном
снегом, и в синей «испанке» — пилотке с белой кисточкой, такие тогда носили все
его сверстники. И в модной велюровой шляпе. Помнился ему Леня и притихшим,
когда он с книгой в руках укрывался в прохладном сарайчике. Нередко туда
наведывались дворовые приятели, и Леня увлеченно излагал им содержание
прочитанного. Причем его неукротимая фантазия (ярчайшее свойство творческого
облика Леонида Енгибарова) уснащала рассказ такими сногсшибательными
подробностями, о каких автор и не помышлял. Как видим, уже тогда проявилось в
нем художническое начало. То, что мы вобрали в себя в детстве, то, что жизнь
заложила в юные сердца, не покидает нас до последних дней, питая память
впечатлениями минувшего, влияя на наши взгляды и поступки.
«Еще в возрасте трех лет Леня любил участвовать в домашних концертах, которые я
устраивала по вечерам,— пишет Евгения Андриановна,— Леня выполнял все, что я
требовала, абсолютно точно: как держать руки, как поднять голову, как петь или
читать стихи... Позже, в пять лет выступал в роли актера и в роли режиссера...»
В семь лет увлекся кукольным театром. Под тем самым ясенем и давали кукольные
спектакли собственного сочинения. «Зрители собирались чуть ли не со всех
соседних домов,— читаем в том же письме.— Режиссер-постановщик просил, чтобы
девчонки отдали своих тряпичных кукол для участия в представлении, и те с
гордостью вручали ему свое богатство. А дома потом рассказывали, как их куклы
были сегодня артистами и как все было интересно». В девять лет Леня придумал
увлекательную настольную игру «Футбол». В чем же она заключалась? На большом
листе фанеры — бывшей рекламе кинотеатра — он начертил футбольное поле: среднюю
линию, штрафную площадку, линию ворот — словом, все, что полагается.
Футболистами были пуговицы. Каждая носила имя популярного в то время игрока.
Мальчик тщательно разработал правила игры и увлек футбольными поединками всю
округу. Долго помнила Марьина роща об этой пуговичной лихорадке. Пополнялись
убывающие кадры полузащитников и нападающих просто — срезались с пальто
домашних. «Бывало, примешься отчитывать его,— вспоминает Евгения Андриановна,—
ты опять, негодник, оттяпал у меня пуговицу!» А он: «Не сердись. Это же вратарь
Хомич. Какая без него игра...» Раскидистый ясень был и сценой, и футбольными
трибунами, и свидетелем отчаянных мальчишеских драк... Авторитет в старых
московских дворах завоевывался превосходством в ловкости и смелости,
изощренностью детских забав и дерзостью проказ. Но более всего почиталась здесь
простая физическая сила — крепкие кулаки.
Весной в соседнем дворе появились новые жильцы — большая рабочая семья, и в
дворовую ватагу влился мальчишка года на три старше Лени — розовощекий крепыш.
И, как выяснилось, большой задира. Схватились они в первый же день на виду у
всех. Несмотря на отчаянную смелость, Леониду все же пришлось уступить
первенство новенькому.
Он тяжело перенес поражение, замкнулся, во двор почти не выходил. Самолюбивое
желание быть всегда впереди не давало покоя. Честолюбие всю жизнь оставалось
неизменной чертой енгибаровского характера. «Быть первым — это великолепно!» —
сказал он много лет спустя в одном из газетных интервью.
Через несколько дней Леонид записался в секцию бокса при Центральном доме
Советской Армии. Мать была в ужасе: такой слабеньки!!, а там, в боксе-то, одни
верзилы — искалечат ребенка...
Похоже, что бокс этой независимой натуре понадобился как средство
самоутверждения. Леониду здорово повезло: его взял в свою группу сам Лев
Сегалович, шестикратный чемпион страны в наилегчайшем весе. Под его
руководством парень дорос до боксера-разрядника; был участником нескольких
юношеских соревнований в весовой категории до 48 килограммов. «Мастером спорта
он не был,— сказал мне его старший брат Михаил, принимавший самое
непосредственное участие в спортивном увлечении своего любимца.— Мастером его
сделали репортеры ». К занятиям спортом Леонид относился с полнейшей
серьезностью: по утрам делал зарядку во дворе, даже зимой. А после зарядим
обязательно обтирался снегом. Тогда же избрал себе кумира — Владимира
Енгибаряна (видимо, под влиянием сходства фамилий}. Это был боксер в
полусреднем весе, ставший чемпионом Олимпийских игр в 1956 году. Во многих
интервью на вопрос: «Кто ваш любимый спортсмен»,— Леонид неизменно отвечал —
«Владимир Енгибарян».
Бои в кожаных перчатках — самое сильное увлечение последних школьных лет.
Позднее эти уроки будут верой и правдой служить Енгибарову-актеру и Енгибарову-
литератору (боксу и боксерам посвящены многие из написанных им новелл}.
Кем быть, какую дорогу в жизни выбрать? — этот извечный вопрос молодости для
него, насколько он помнит, не являлся такой уж жгучей проблемой. Кем быть? Ну
ясно — спортсменом, боксером.
И вот Леонид — студент Института физической культуры. Правда, прозанимался там
он всего несколько месяцев. Ушел потому, что понял — это не для него. Да,
конечно, огороженный веревками квадрат ринга не дал бы ему простора для
самовыражения, слишком щедро одарила природа этого человека.
«Я чувствовал,— говорил позднее Енгибаров,— что меня все сильней и сильней
влечет работа творческая. Хотя толком еще не знал, какая именно и где. Будущее
смутно виделось связанным с кино. Но вот однажды на детском утреннике в цирке
увидел Карандаша. И это решило мою судьбу: я стал студентом Циркового училища».
2
Москва. Пятая улица Ямского поля, дом № 24. Сегодня уже более полувека здесь
помещается первое в мире Государственное училище циркового искусства, в стенах
которого на отделении клоунады постигал азы будущей профессии Леонид Енгибаров.
Ему двадцать один год, он немного старше сокурсников. И серьезней. Первые
месяцы новичок был уверен, что в клоунском деле ему все ясно, никаких тайн: все
просто, все ему под силу. По чем дальше, тем это искусство все больше и больше
озадачивало. И хотя на занятиях по актерскому мастерству нередко случалось,
что, исполняя нафантазированные этюды, изумлял причудливой выдумкой и педагога
и всю группу, тем не менее сама суть клоунского искусства представала перед ним
в каком-то тумане.
Поначалу Леониду казалось, что на каждом занятии он будет обильно черпать
сведения об избранном жанре, не только теоретические, но и практические, как
это было там, в спортивном зале. Тренер учил его тактике боя, давал конкретные
указания, объяснял подробности ведения атаки и обороны. Занятия были успешными,
потому что Лев Сигалович сам был в прошлом опытным боксером и дело свое знал до
тонкости. А в училище все было как-то неопределенно, расплывчато. Ему казалось,
что будущую специальность они изучают слишком поверхностно, не получая чего-то
очень важного, но чего именно — не знал. Много лет спустя Леонид Енгибаров,
вспоминая ту пору, расскажет, что временами его охватывал неподдельный страх,
ему казалось, что дело это никак не дается ему в руки и что вообще оно
непостижимо. «Я был в полной растерянности... Одолевали мучительные приступы неуверенности
в себе, в своем выборе. Это ощущение болезненно ныло во мне, как обожженная
кожа...» Зато дисциплины, как он их называл, конкретные — эквилибристику и
жонглирование — осваивал с увлечением. Все это было внове ему. Особенно был
захвачен акробатикой. «Акробатика — всему голова». Это сказал ему старый
клоун-буфф Николай Александрович Кисе. К тому времени Леонид пристрастился
слушать рассказы бывалых людей, чья жизнь связана с манежем. От них и услышал,
что знаменитые мастера смеха, как правило, были искусны в акробатике, да и во
многих других жанрах — старый цирк требовал от коверного универсальности.
Кстати сказать, о том же говорилось и в книгах, посвященных полюбившемуся
искусству. Вот, например, свидетельство Д. В. Григоровича о разносторонности клоуна.
В своем «Гуттаперчевом мальчике» сто лет назад он писал: Эдвардc «один мог
заменить целую труппу: был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом,
жонглером, мастером дрессировать ученых лошадей, собак, обезьян, голубей».
Тренировался Енгибаров упорно и много, что называется, до седьмого пота,
оставаясь обычно и после уроков в числе энтузиастов самоподготовки. Как был
горд Леонид, когда научился делать свой первый акробатический трюк «лягскач».
(Лягскач — ловкий вскок на ноги из положения лежа за счет резкого взмаха
ног, напоминающего всплеск рыбьего хвоста, из-за чего это упражнение называется
иногда «рыбьим прыжком».)
Из училища любил возвращаться пешком (привычка эта сохранилась на всю жизнь).
Неблизкий путь до Белорусского вокзала, а случалось, и до самого дома, он
проходил в размышлениях. И особенно часто о природе смешного. В эти годы
самопознания и самооценки
Енгибаров любил порассуждать о смешном на манеже и на киноэкране, в литературе
и в обыденной жизни — вопросы эти всерьез занимали пытливого студента.
Интересовало его и различие комедийных форм. Какова, например, природа фарса и
какова бурлеска? В чем суть буффонады и в чем — эксцентрики? Что есть гротеск и
что — пародия? При случае затевал разговоры на эти темы со сведущими людьми. О
своей профессии хотел знать все.
На многих страницах его блокнотов, которые хранятся ныне в Центральном
Государственном архиве литературы и искусства, встречаются записи, относящиеся
к проблемам комизма. Будущий артист вчитывался в книги, искал ответ на важные
для него вопросы технологии циркового комизма. Старался докопаться до самых
корней — какими средствами выразительности пользовался, например, родоначальник
английской клоунады Джозеф Гримальди, этот «Микеланджело буффонады», какими
приемами смешил неповторимый музыкальный клоун Грок, а какими — его
современник, клоун-буфф Эйжен? Сожалел, что так мало сохранилось сведений о
творчестве комиков прошлого, привлекавших его внимание: о гастролере из Франции
Луи Виоле, веселившем петербуржцев во времена Тургенева, о виртуозе смешных
танцевальных пародий Максе Высокинском. Пристально вглядываясь в дошедшие до
наших дней фотографии Жакомино, хотел понять тайну его огромнейшего успеха в
столицах России и Польши. «Секреты» циркового комизма, разнообразие его форм
будут занимать Енгибарова и когда он станет зрелым мастером клоунады.
Частенько Енгибаров-студент размышлял о кинокомедиях и кинокомиках. И как
только узнавал, что где-то состоится разговор об этом, да еще с показом фильма,
мог, несмотря на усталость, помчаться хоть на край города.
Живой, общительный, он легко заводил знакомства. Однажды услышал, что в Большом
зале Политехнического музея проводится цикл лекций по истории мировой
кинокомедии. Абонемент достать удалось с огромным трудом. Там впервые увидел он
восхитившие его старые ленты Чаплина, о котором много читал; там познакомился с
творчеством жизнерадостного француза Макса Линдера и предприимчивого молодого
американца в роговых очках и канотье Гарольда Ллойда, смеялся над забавными
проделками Пата и Паташона. Узнал и другой блистательный дуэт, незнакомый у нас
— Оливера и Харди. Но особенно сильно захватил Леонида Бестер Китон. По словам
Енгибарова, это было самое глубокое художественное впечатление его студенческой
поры. «То, что я увидел, не походило ни на что из прежде просмотренного.
Настоящее потрясение. Потом целых две недели ходил сам не свой. Перед глазами
все время стоял его невозмутимо-грустный взгляд, его худое, бледное, чуть
скуластое лицо и приплюснутая шапчонка на голове». Ни один из комиков не
вызывал в его душе такого сопереживания, как Бестер Китон. «Я жил вместе с ним
его экранной жизнью». Комедийный метод этого мастера смеха, на взгляд
Енгибарова, был высшим проявлением эксцентризма, а манера игры представлялась
поразительно современной. И в особенности привлекало к этому чародею то, что
он, выходец из цирковой семьи, первоклассный акробат, сам, без дублера,
проделывал по ходу сюжета все головоломные трюки.
Леонида удивила философия жизни героя Китона, который невозмутимо встречал бесчеловечность
окружающего мира и чудовищное зло, творимое вокруг. Все это он воспринимал с
каменно-бесстрастным лицом стоика. Великий актер играл одинокого человека в
этом безумном, безумном мире, человека, который покорно сносил все удары
судьбы. Небольшое отступление. Разбирая груду старых фотографий, я увидел
несколько снимков, сделанных в годы учебы Енгибарова. На них он изображен в
приплюснутой шапчонке, с характерно поднятыми бровями и чуть приспущенными
веками,— будущий клоун явно подражал своему кумиру. Проникновение в душу
«грустного» комика было столь сильным, что и в зрелую пору герой Енгибарова нес
в себе эту грустинку.
Пристрастился Леонид ходить и в «Иллюзион», кинотеатр, в котором
демонстрировались старые ленты, предваряемые, как правило, содержательным
вступительным словом киноведа. Всеми правдами и неправдами проникал в Дом кино,
когда там шли комедийные ленты. Стремясь глубже постичь механизм смеха, Леонид
стал смотреть такие фильмы по два-три сеанса подряд. На первом захватывало
развитие сюжета, а подробности и нюансы ускользали. Зато на последующих во все
глаза следил за техникой комического трюка — это были, как он говорил, самые
полезные уроки. Студент Енгибаров энергично впитывал в себя и другие
художественные впечатления; смотрел с однокурсниками представления в зимнем
цирке, а летом — в шапито, часто бегал на эстрадные концерты, впивался в экран
телевизора, «когда там показывали что-то веселое...» Таким образом, у него
постепенно складывались те ценные профессиональные накопления, которые позднее
он будет щедро расходовать на воплощение своих художественных идей. Но до этого
еще далеко. И пока жадное, без разбора, поглощение книг и всевозможных зрелищ
обернулось залежами непереваренной информации. «В голове у меня тогда
образовалась каша. Нет, каша нечто однородное, винегрет был в моей голове,
мешанина,— вспоминал Енгибаров, — Прочитанное, услышанное — все перепуталось».
Однако студенческие годы не прошли даром. Наряду с профессиональными навыками
формировались художественные взгляды, развивался вкус, вырабатывались основы
эстетических воззрений, происходило становление характера.
В последние месяцы, проведенные в стенах училища, Леонид Енгибаров увлекся
пантомимой. Это пристрастие оказалось чрезвычайно важным для его творческого
будущего. В учебную программу уроки пантомимы тогда не входили. Дело это было
новым для училища, мало кому известным. Среди преподавателей и администрации
находились и такие, кто решительно не разделял занятий Енгибарова и его друзей
«этими странными упражнениями глухонемых». Тем не менее энтузиасты
красноречивого безмолвия, не имея ни педагогов, ни учебников, продолжали
настойчиво осваивать сложный язык искусства пантомимы, изобретали на свой страх
и риск собственную грамматику пластических движений, или, как говорил
Енгибаров, телесный синтаксис. До всего доходили своим умом. Многие упражнения
подсказала интуиция, в частности, весьма продуктивные — на расслабление одних
групп мышц и напряжение других. Упорные тренировки и неустанное придумывание
этюдов, реприз, сценок не преминули принести свои плоды. Заметно возросла
пластическая выразительность Леонида, накопилось изрядное количество сочиненных
им бессловесных миниатюр. Язык жестов, обладающий неисчерпаемыми возможностями,
пришелся как нельзя более самому характеру его дарования — поэтическому видению
мира. «Пантомима легла мне на душу»,— скажет он позднее. И вот, наконец,
отшумели два положенных года, незаметно подошло время выпуска. Сокурсники давно
уже объединились в дуэты: считалось, что у двоих больше творческих
возможностей. Енгибаров же твердо решил — будет работать один, будет солистом.
Уже тогда сделал он свой выбор — стать клоуном-мимом. И это, несмотря на весьма
настойчивые советы не пренебрегать речью. Рекомендации «озвучиться» Леонид
Енгибаров будет получать на протяжении всей творческой жизни. Однако с присущей
ему категоричностью отстаивал, как и в студенческую пору, приверженность к
языку жестов. «Я молчу,— говорил он,— вовсе не потому, что не владею словом. В
цирковом училище я прошел курс техники речи. Разговариваю в фильмах, читаю
стихи и даже люблю петь». В защиту безмолвия у него нашлось немало доводов,
которым не откажешь в убедительности: «Мир пантомимы полон звуков и красок. Он
гремит... звонко пост и тихо шепчет слова любви». А вот и самый главный, по его
мнению, аргумент: «В цирк, как мне кажется, приходят смотреть представление, а
не слушать его».
Как же нужно было верить в правоту своего выбора, с какой глубиной постижения
осознавать необъятную силу искусства пантомимы, чтобы избрать для себя эту
трудную, почти нехоженую дорогу. Недаром же говорится, что вера в себя — в
числе определяющих признаков истинного таланта.
Наиболее дальновидные из его наставников к тому времени уже сумели разглядеть
незаурядность своего питомца, составили вполне определенное представление о его
творческом будущем. «Леонид Енгибаров выделялся своими интеллектуальными
интересами, глубоким чувством прекрасного, творческими поисками и поистине
титанической работоспособностью,— говорит в письме к автору этих строк преподаватель
ГУЦЭИ, кандидат искусствоведения И. Я. Новодворская.— Его литературные интересы
были очень разнообразны, в особенности его привлекала русская поэзия XVIII
века, в частности Державин. Привлекали его и произведения русских
художников-символистов. Безусловно, большое влияние на эстетические взгляды
Енгибарова оказала его педагог - режиссер Наталья Сергеевна Соловьева»
(правнучка русского историка С. М. Соловьева}.
Отделение клоунады готовилось к выпускным экзаменам. В это жаркое время
Енгибаров был настолько поглощен походами в кинотеатры, на выставки и
спектакли, что приближающееся испытание застало его, как он сам признавался,
врасплох. И вес же экзамены сдал хорошо. В архиве училища хранится протокол
заседания педагогического совета от 15 июня 1959 года. В графе «Специализация
по жанрам циркового искусства» стоит оценка «5».
Итак, Леонид Енгибаров — дипломированный артист цирка, и едет на стажировку в
Армянский цирковой коллектив «Ереван».
Пройдет не так уж много времени, и знаменитый клоун, гордость училища, займет
почетное место за столом экзаменационной комиссии, за тем самым столом, перед
которым, казалось, еще так недавно и сам стоял, испытывая глубочайшее волнение.
В начале пути
В конце концов,
не все зависит от человека, хотя и многое.
Виктор Розов
1
В самом начале творческого пути Леонид Енгибаров изведал глубокое потрясение, о
котором знал лишь узкий круг людей. Новые материалы проливают свет на события
горестного для молодого клоуна времени.
...Августовским днем 1959 года скорый поезд «Москва— Новосибирска мчал
выпускника циркового училища к месту его будущей работы. В столь длительное
путешествие Енгибаров пустился впервые в свои двадцать четыре года.
В дорогу он взял томик любимого с детства Ханса Кристиана Андерсена, сказками
которого был очарован и помнил многие из них в мельчайших подробностях. К этой
книге Леонид тянулся всякий раз, как только у него было сумрачное настроение
или, напротив, когда душа полнилась светлыми чувствами. Бесхитростные,
поэтические истории, рассказанные великим датчанином, не перестанут волновать
артиста до последних дней. И все годы в его сердце будет жить мечта — создать
яркий цирковой спектакль по мотивам сказок Андерсена.
Ехал он полный надежд, творческих замыслов и дерзкой самоуверенности. Хотя
оснований для того, как увидим, было маловато. Дело в том, что в бытность
студентом ему не привелось пройти стажировку на манеже, и потому все его
представления о самой работе, о ее характере, основывались исключительно на
рассказах старых артистов и романтических историях, почерпнутых из книг.
Леонидом владело нетерпение — скорее влиться в дружную семью единомышленников,
в радушном приеме которых ни секунды не сомневался. Хотелось выходить каждый
вечер на залитый светом прожекторов манеж и весело заполнять паузы, хотелось
учиться мастерству у старших опытных, как ему представлялось, коверных Сико и
Сако...
Вторая половина 50-х и 60-е годы отмечены небывалым расцветом
многонационального циркового искусства. К ранее созданным и плодотворно
работавшим коллективам: узбекскому, грузинскому, армянскому, литовскому,
латвийскому, азербайджанскому, украинскому, белорусскому — прибавлялись одна за
другой новые, специально подготовленные труппы, сформированные из молодых
артистов Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Татарии, Башкирии, Киргизии. В
этом благотворном климате успешно развивалось творчество даровитых
канатоходцев, наездников, гимнастов, комиков.
Превосходный дворец циркового искусства, которым сегодня по праву гордится
Новосибирск, в ту пору еще не был построен. Представления шли в старом
деревянном здании под брезентовой крышей, которое, впрочем, содержалось в
идеальном порядке. И в том была заслуга директора цирка Даниила Кирилловича
Бабина, человека доброжелательного, с большим опытом театральной деятельности и
хорошим художественным вкусом. Прибывшего из Москвы молодого клоуна встретили в
коллективе настороженно. Однако он не сразу почувствовал это, отвлеченный общим
обилием впечатлений и устройством на жительство. Лишь некоторое время спустя,
озабоченный тем, что его не ставят в программу, обратился к руководителю. Мало
ли что аттестат с круглыми пятерками, было сказано ему, это еще ни о чем не
говорит. Одно дело школа, а другое — производство. Тут, голубчик,
ответственность. А если что-то не так? Ведь может и нагореть... Кому же это
охота? Нет, миленький, сперва с вашей работой должен познакомиться
художественный совет коллектива.
Просмотр был назначен на двенадцать дня и проходил без публики. К слову
заметить, распространенная и в цирке и на эстраде практика подобного рода
просмотров в корне неправильна. Юмор рассчитан прежде всего на живое восприятие
— ив этом вся суть. Лишаясь непосредственного контакта со зрительным залом, не
чувствуя его реакции, артист утрачивает опору. Просмотры, связанные, как
правило, с волнением, а порой и с неподдельным страхом, часто превращаются в
моральную пытку.
Выступление дебютанта прошло при гробовом молчании. Лица членов художественного
совета были непроницаемы. После томительной паузы вдруг все заговорили в один голос:
«Это что же такое?! Кого к нам присылают? Что им тут показали?! Э-э, разве это
работа!.. Да что в самом деле, коллектив у нас или детский садик?! И куда
смотрело это училище! И вообще, кто сказал этому человеку, что он клоун?»
И вот тут в первый, но не в последний раз вмешался директор цирка. Надо ли
спешить с выводами, сказал Бабин. На него, например, молодой артист произвел
неплохое впечатление. Что-то в нем есть, чувствуется, что он еще очень
неопытен, но видна подготовка и способности. Может быть, имеет смысл посмотреть
молодого человека еще раз, но уже на зрителе... Директора уважили, нехотя,
конечно, но уважили. Леониду разрешили в пятницу вечером три выхода, иначе
говоря, позволили заполнить три паузы между номерами. И еще строго-настрого предупредили:
не тянуть, коротко, в темпе, раз-два и ушел.
Нетрудно представить себе, в каком напряжении прожил начинающий коверный
оставшиеся до пятницы дни, с каким душевным трепетом готовился к своему первому
выступлению, которое лишь случайно не стало последним...
Прямо скажем, под брезентовым куполом Новосибирского цирка не слышалось
восторженных оваций и девушки не бросали на ковер букеты цветов. Забегая
немного вперед, замечу, что и овации, и букеты, и взрывы хохота — все это будет
ровно через десять лет, когда он вернется сюда уже именитым актером во главе
Московского эксцентрического театра. Тогда же столь очевидный провал потряс
новичка. За кулисами неудачник наталкивался на откровенно насмешливые взгляды,
иные смущенно отводили глаза. Хотя никто не заговаривал с ним, никто не
осуждал, но кожей чувствовал он вокруг себя атмосферу отчужденности. Да,
выступление это стало черной пятницей Леонида Енгибарова. Бывший боксер в
первом же раунде получил нокаут. Однако бойцовские качества характера не дали ему
сложить оружие. Исполненный решимости продолжать поединок, он упрямо твердил
себе, что докажет всем этим людям — поражение было чистой случайностью, просто
сильно волновался. И, во-вторых, репризы делал не те. А теперь все продумал —
надо давать мимические сценки. Ведь вот же в Москве, в Театральном институте, и
потом в Доме актера под Новый год, какой успех имели его пантомимы. И сейчас...
дайте только показать «Тяжелоатлета», «Укротителя», а на закуску — «В столовой
самообслуживания» — и будут, как в Москве, вызывать на бис...
Енгибарову не терпелось изложить все это художественному руководителю. Он был
твердо убежден, что тот сразу же во всем разберется и даст ему, дебютанту,
возможность взять реванш, и все увидят: а ведь парень-то стоящий.
Объясниться хотелось с глазу на глаз, но в кабинете все время толклись люди,
шумливые и бесцеремонные. Наконец, после долгого колебания, вошел в комнату и,
подавив смущение, стал было сбивчиво убеждать худрука разрешить ему сегодня
вечером показать другие репризы. Но в ответ услышал: согласно решению
Художественного совета товарищ Енгибаров направляется обратно в Москву, в
распоряжение главка. Все бросить и бежать куда глаза глядят! Такое чувство
овладело Леонидом в те первые минуты... И ведь могло статься, что наш цирк
навсегда потерял бы артиста ярчайшего таланта, выдающегося клоуна
современности. Но он все же взял себя в руки и добился повторного просмотра.
Однако и на этот раз — провал. Его выступление озадачило еще больше. Дело в
том, что исполненные коверным пантомимические репризы, рассчитанные на
фронтальный показ с подмостков сцены, в круговом обзоре (когда половина цирка
видит лишь спину актера, а мимика и жесты остаются вне поля зрения), были
просто непонятны. Нельзя не учитывать и еще один важный момент. Успех, который
Енгибаров имел в Москве, выступая перед театральной публикой, уже
познакомившейся с возрожденным искусством красноречивого молчания, здесь был
невозможен. Сибирякам пантомимический язык казался непостижимым ребусом.
Видя, что этот странный дебютант не робкого десятка и, следовательно,
избавиться от него будет не так-то просто, некоторые члены Художественного
совета договорились обосновать его отчисление решением общего собрания — пусть
потом поспорит с волей коллектива. Это собрание на памяти у многих. Мне
довелось слышать о нем от нескольких лиц. Происходило оно под навесом среди
зелени ухоженного циркового двора. Погода в тот день, как хорошо запомнилось
людям, была пасмурной и ветреной, откуда-то издалека доносились раскаты грома,
сверкали сполохи молний.
Сперва старейшины труппы витиевато говорили о высокой ответственности звания
артиста национального цирка и о том, что каждый член коллектива, от мала до
велика, должен свято оберегать его традиции. А то, что здесь показал молодой
артист, не может, при всем желании, расцениваться иначе, как ученические пробы,
и потому не способно достойно представлять искусство армянского народа.
Тон был задан. А далее один за другим брали слово гимнасты, дрессировщики,
руководители номеров — люди степенного возраста. Со всей категоричностью
высказывались они о профессиональной непригодности артиста, присланного из
училища. Было видно: точка зрения у всех едина — отчислить. Самое время
проголосовать, запротоколировать и — делу конец. Но тут неожиданно над самой
крышей Красного уголка взорвался громовый разряд. Женщины испуганно ойкнули и
стали переговариваться.
В этот момент к столу президиума протиснулась артистка Нази Ширай, человек
прямой и принципиальный. Она заговорила со страстной убежденностью. Почему это
у некоторых такая короткая память? Почему все вдруг забыли, как начинали сами?
Разве у каждого было все гладко? Разве от волнения не валилось все из рук?
Можно ли выносить начинающему артисту, который манежа и не нюхал, такой суровый
приговор, убивать человека морально? Тут говорили: «Енгибаров не
профессионал...» Но ведь его же просматривали в Москве, просматривали и нашли,
что человек может работать в нашем коллективе. А мы долдоним — не может!
Выходит, там ничего не понимают, а мы понимаем! Просто этот человек кое-кому
мешает! Вот и все. И сговорились убрать... Ну хорошо, допустим, отчислили.
Уехал. А дальше что? Подумали об этом? Дальше — позор коллективу! Почему? — Она
говорила, обращаясь прямо к художественному руководителю.— Да потому, что не
умеем воспитывать молодые кадры. Распишемся в собственной беспомощности!
Нази Александровна отметила исключительную работоспособность Енгибарова. Люди
знают, что у нее заведено тренироваться спозаранку. Она — свидетель: как только
новенький приехал — чуть свет уже на манеже, репетирует. Это говорит о
чем-нибудь или не говорит? А кто из присутствующих здесь хоть раз поднялся в
такую рань? Она твердо уверена: если к молодому артисту отнестись
доброжелательно, то со временем из него выработается коверный. И закончила,
решительно заявив, что как член Художественного совета протокол не подпишет. Ее
поддержала Амалия Акопян, костюмерша коллектива. Говорила она громко и
напористо на родном языке, выразительно жестикулируя: «А что, собственно,
представляют собой наши коверные, которые тут кричали: «Не профессионал, не
профессионал». А сами они разве академики! Уж она-то знает, как эти Сико и Сако
подговаривали людей: «Раз мы работаем, зачем нам другой...» Акопян показала на
новенького: ведь он же еще птенец, летать еще не научился. А мы — бац! Обрубаем
ему крылья! Позор!»
Затем слово взял директор цирка. По его мнению, было бы непростительной ошибкой
отправить выпускника училища назад с волчьим билетом. Он уже говорил и
повторяет вновь: молодой коверный не лишен актерских задатков. Но он еще очень
сырой, еще не нашел себя, не нашел своей маски, своего репертуара. Интуиция
подсказывает ему, Бабину: со временем начинающий артист сможет сложиться в
оригинального клоуна, и в этом отношении коллективу следовало бы мыслить перспективно.
Коверные Сико и Сако уже в возрасте, и к тому же — как бы это помягче сказать?
— их мастерство оставляет желать много лучшего. Ну а если быть совсем
откровенным, они просто снижают художественный уровень программы. Ждать, что
взамен дадут новых коверных — нереально. Так что не отчислять надо, а помогать,
растить смену.
Енгибаров не забудет участия в его судьбе этих людей, их поддержку в самую
горькую для себя минуту, навсегда сохранит в своем благодарном сердце теплое
чувство признательности.
То злосчастное собрание закончилось не так, как замышлялось. Леонида оставили в
коллективе, но ощущал он себя здесь чужаком; ему разрешалось выходить в манеж
только на детских представлениях и лишь изредка — на вечерних. Его поучали,
пытались переделывать исполняемые им интермедии, навязывали свои вкусы и
понятия. Молодой стажер оказался в атмосфере полной зависимости от людей
закоснелых, мыслящих категорически.
Помимо субъективного недоброжелательного отношения, были еще причины, по
которым начинающий комик претерпел неудачу. Во-первых, он не научился пока
устанавливать контакт со зрителями, без чего клоун не может состояться, и,
во-вторых, был невзыскателен к репертуару. Сохранилось несколько любительских
снимков того периода. Бесстрастный глаз фотообъектива подсмотрел то, что
незадачливый коверный исполнял на манеже Новосибирского цирка, Вот он
балансирует на лбу куклу — примитивный кунштюк, какой проделывали едва ли не
все тогдашние коверные провинциальных цирков. Столь же незамысловатыми были и
другие шутки, извлеченные из старинных клоунских сундуков: стягивал, к примеру
сказать, с руки длинную-предлинную перчатку, сбрасывал с себя добрый десяток
жилеток, надетых одна на другую. В том же роде были и остальные его репризы. И
костюм молодого клоуна, как свидетельствуют снимки, был традиционным:
мешковатый клетчатый пиджак и широченные брюки. Как мало общего с той
элегантной фигурой в цветной полосатой фуфайке и узких черных брюках, каким мы
привыкли видеть прославленного мастера цирковой арены. Он добросовестно
копировал тогда всех коверных, каких только успел увидеть.
В первый же свой сезон Енгибаров оказался нравственно надломлен и замкнулся в
себе, что так не вязалось с его живым, общительным характером. Намеревался
даже, как рассказывали, в знак душевной боли отпустить, по древнему армянскому
обычаю, бороду...
Натура импульсивная, он всегда жил более порывами сердца, нежели разума.
Глубокая обида и внутренняя неустроенность толкнули его, впервые оторванного от
семьи, в сомнительную компанию дружков-собутыльников... Да, невеселое начало.
Возможно, если бы он не был столь даровит, то его творческое формирование
протекало бы менее драматично. Впрочем, Леонид Енгибаров не первый из клоунов,
кого признали не сразу. Обратимся хотя бы к воспоминаниям Карандаша и Юрия
Никулина...
Напряженная внутренняя жизнь, острое недовольство собой, приступы отчаяния,
которые сменялись полным безразличием,— все это затормозило творческое развитие
молодого артиста.
Вспоминать о том времени Леонид не любил, всякое прикосновение к этой болевой
точке вызывало внутреннее содрогание. Не тогда ли зародился в голове будущего
литератора замысел новеллы «Не обижайте человека», в которой с такой
пронзительной горечью выражено наболевшее: «Зря, просто так обижать человека не
надо. Потому что это очень опасно. А вдруг он Моцарт? <...> Вы его
обидите — он и вовсе ничего не напишет <...> Берегите друг друга, люди!»
Анализируя причины неудачного дебюта Енгибарова, докапываясь до корней, возьмем
в расчет и то немаловажное обстоятельство, что молодой артист не имел еще
никакого жизненного опыта, не накопил творческого багажа. А ведь без
предварительной подготовки в других видах циркового искусства дорога к успеху
даже при наличии дарования, по убеждению многих мастеров арены, становится
более длинной и тернистой.
Замечательный деятель циркового искусства Вильяме Труцци говорил начинающим
клоунам, что сперва артист должен совершенствоваться в разных жанрах: быть
«человеком без костей», акробатом-прыгуном, поработать на трапеции, овладеть
наездничеством и лишь после этого может позволить себе думать о том, чтобы
смешить публику. Существует множество других свидетельств, подтверждающих эту
непреложную истину. Клоунское дело «не может быть первой цирковой профессией,—
писал известный мастер арены Роланд (К. Плучс).— В клоуны нельзя прийти со
школьной скамьи, из классов студии, а лишь накопив определенный опыт работы в
цирке». Подтверждение его мыслям находим и в воспоминаниях Юрия Никулина:
«Чтобы стать настоящим коверным, нужно время. Опыт приобретается с годами...
Имя себе клоуны делают постепенно, долго». Можно было бы процитировать мнение
многих других, писавших о цирке, но ограничусь лишь суждением Л. Кобера,
немецкого автора многих книг о цирке. Он также считает, что «для настоящего,
большого клоуна основой его искусства служит богатая впечатлениями пестрая
жизнь», К такому же выводу позднее придет и сам Енгибаров. Как личность и как
профессионал, человек складывается обычно, когда он уже изведал радости бытия и
горечь разочарования, торжество обретений и боль утрат, когда богаче стал его
духовный мир, когда у него образуются «мозоли на душе»... В очерке «Как стать
клоуном» среди восьми качеств, которыми должен обладать тот, кто намерен
избрать профессию циркового смехотворца, на второе место после юмора он
поставил жизненный опыт.
Творческие неудачи Енгибарова в начале пути явились следствием сложившейся в те
годы практики подготовки молодых клоунов, практики, мягко говоря,
несовершенной. Обучение было отвлеченным, оторванным от конкретной цели: студентов
знакомили с техникой актерского мастерства, так сказать, вообще, вне
определенной ориентации на специфику смехового жанра.
Если воздушного гимнаста, жонглера, эквилибриста можно подготовить в учебном
манеже, то клоуна без цирка, заполненного публикой, не вырастить. Притом
практикант должен находиться под неослабным наблюдением опытного мастера. Ведь
в окружающей действительности мы видим: за рулем автобуса, троллейбуса сидит
новичок, а рядом — инструктор. Без стажировки непосредственно на манеже, без
поддержки вдумчивого мастера, поднаторевшего в искусстве смеха, овладеть
профессией клоуна трудно, почти невозможно.
2
Тягостные испытания продолжались и в Харькове, куда прибыл на гастроли
Армянский цирковой коллектив. Начинающий артист по-прежнему чувствовал себя
парией, человеком непонятым и ущемленным, по-прежнему терзался несбывшимися
надеждами, по-прежнему терпел муки недовольства собой. Он жил на пределе
самообладания. Дни его были заполнены тревожными раздумьями о своей участи.
Лишенный какого-либо компетентного наставничества, судорожно метался по манежу
в рамках скупо отпущенных ему минут от одного клоунского приема к другому —
найти собственное творческое лицо никак не удавалось. Как знать, чем окончилась
бы эта полоса отчаяния, не возникни одно обстоятельство, которое самым
решительным образом переменило его судьбу. В Харьков приехали представители
республиканского министерства культуры и художественного отдела глазка, чтобы
на месте разобраться в нездоровой обстановке, которая создалась в Армянском
коллективе.
Ситуация и впрямь была сложной, настолько сложной, что многие артисты
стремились всеми правдами и неправдами выйти из труппы.
В архиве Союзгосцирка хранится протокол общего собрания Армянского коллектива
от 23 января 1960 года. Знакомство с этим документом позволит составить в
достаточной мере объективную картину положения дел в труппе. Выступили многие.
Говорили горячо и откровенно. Художественный руководитель В. А. Арзумапян в
отчетном докладе особо отметил плохую дисциплину, назвав ее расхлябанной. «В
течение четырех лет,— говорил он,— у нас было четыре крупных собрания, где
разбирались только склоки». Подробно говорил о работе коверных, отмечая
творческую невзыскательность Сико и Сако (Минералова и Арутюнова}. «Их роста я
в течение трех лет не вижу, люди даже не репетируют. <..-> С приездом
товарища Енгибарова началась большая неувязка. <...> Енгибаров мне
заявил: «Я — соло-клоун, дайте мне работать одному,». <С...> Енгибаров
является способным коверным, но у него еще мало опыта, и целиком вести
программу, думаю, ему будет трудно; у него есть идея создания нескольких
эксцентриад, и нам надо поддержать это ценное предложение». В протоколе
записано и выступление Енгибарова. «В первую очередь скажу о коверных. Я думаю,
что для меня, молодого, показ трех или четырех реприз ничего не даст: образ
коверного создается на протяжении всего вечера...». Запомним эти слова, они
говорят о том, что начинающий артист уже тогда ясно понимал самую суть развития
клоунского характера, развития во времени и пространстве. Представляет интерес
и еще одно место в его выступлении: «Я сам армянин, и мне приятно работать в
этом коллективе, где я могу вырасти и с помощью старых артистов пополнить свои
знания». И это сказано, несмотря на обиды и горечь. Как видим, внешне Енгибаров
настроен вполне миролюбиво. Или, быть может, дипломатично. Что также делает ему
честь. Протокол завершается постановлением: «В ближайшее время подготовить
артиста Енгнбарова в образе национального клоуна у ковра». Леонид воспрял
духом: наконец-то свершилось то, о чем он так долго мечтал, чего безуспешно
добивался. Армянская пословица гласит: «Не бывает ночи без рассвета». И для
Енгибарова наконец-то забрезжил свет надежды. Пребывание молодого клоуна в
Москве, в Центральной студии циркового искусства, куда он был направлен для
создания нового репертуара, стало переломным моментом в его творческой судьбе.
В Студии в то время подобрался хороший режиссерский коллектив, возглавляемый А.
Г. Арнольдом, и активно действовал репертуарный отдел. Пять месяцев
промелькнули в атмосфере профессиональных разговоров, репетиций, тренировок и
экспериментов. Енгибаров слушал лекции, ежедневно бывал на занятиях по
мастерству актера, встречался с литераторами, художником, постановщиком Л. А.
Харченко.
Результатам этого периода Леонид дал высокую оценку: «Даже если бы я не вынес
из церкви (Центральная студия располагалась тогда в храме Рождества Богородицы
в Путниках на улице Чехова) ни одного номера,— сказал он,— игра все равно
стоила свеч хотя бы только потому, что я поварился в этом котле...»
Итак, с творческим багажом, состоявшим из трех новых интермедий, созданных в
Студии,— «Зонтики», «Жилетка » («Баланс») и сатирическая клоунада «Стирка»,
Леонид Енгибаров прибыл в Одессу, где в это время гастролировал Армянский
цирковой коллектив. Позднее, отвечая на вопрос журналиста: «Ваши любимые
города?» — ответит: «Москва, Ереван, Прага, Одесса». В другом интервью сказал:
«Одесса вынесла окончательное решение — быть мне или не быть»,
3
Леонид Енгибаров стоял в боковом проходе одного из старейших цирков России,
пустом в этот ранний час, и с жадным интересом разглядывал его внутренний вид.
Зданию непривычной конфигурации было без малого семьдесят лет. Когда-то седой
ветеран цирковой архитектуры назывался «Железным» (его собрали из огромных
гофрированных листов оцинкованного железа). На взгляд начинающего артиста был
он красоты неописуемой. Подумать только: ему, Леониду, предстоит выходить на
тот самый манеж, где блистали все «звезды» мирового цирка, выступать под тем
самым куполом, под которым в мальчишеские годы сидели вот на этих зрительских
местах и с замиранием сердца следили за «королями воздуха» и хохотали до колик
над шутками клоунов Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров, Юрий Олеша,
Эдуард Багрицкий, Семен Кирсанов, Исаак Бабель, Корней Чуковский. Каждый из них
оставил хотя бы краткое литературное свидетельство своей привязанности к цирку,
сохраненной на долгие годы. Нередко судьба человеческая зависит от стечения
обстоятельств. В Одессе они складывались для молодого артиста благоприятно. Это
выразилось прежде всего в той неоценимой творческой помощи, какую дебютант
получил от старейшин цирковой клоунады.
Уже третий день выходил новый коверный заполнять паузы между номерами, когда к
нему в гримировочную комнату шумно ввалился Донато. Он был под хмельком. Не
обращая внимания на присутствующих, старый клоун панибратски потряс Енгибарова
за плечо, назвал почему-то своим Бамбино, похвалил, что было в устах этого
гордеца просто неслыханным делом. Пообещал кое в чем помочь новичку и добавил,
что завтра придет на репетицию. О Донато Енгибаров услышал еще в студенческие
годы. Выдающийся цирковой комик Донат Васильевич Старичков происходил из семьи
потомственных артистов. Отец его работал на турнике, мать Элиза Писсиутти —
наездницей. «Родом она,— рассказывал Донато,— итальянка. Так что учтите: в моих
жилах — горячая кровь».
Как было принято в те времена, его с малых лет обучали всем цирковым
премудростям. Живой, непоседливый, он еще малышом начал выходить в манеж. В
юношеские годы ему уже поручали в пантомимах комические роли. А свой первый
самостоятельный жонглерский номер, в котором участвовал дрессированный
фокстерьер, Донато подавал в эксцентрическом плане. Однако прославился он как
рыжий в буффонадных антре и неподражаемый комик в полете.
Пожалуй, ни о ком из цирковых артистов не ходило столько всяческих россказней,
как о Донато. Он слыл заводилой остроумных проделок и веселых разгулов,
неуемным проказником и выдумщиком смешных мистификаций. Из всех цирковых озорников
его считали самым изобретательным, из всех бражников — самым необузданным. Но
притом обязательно добавляли: зато уж и артист, каких поискать! И начинались
воспоминания о его неиссякаемых импровизациях в антре и на вольтижерском
мостике. Именно талант импровизатора и приносил ему успех и популярность.
В последние годы Старичков выступал не на цирковом манеже, а под открытым небом
в каком- нибудь городском саду, в парке отдыха или на стадионе. Как никто, умел
он органично сочетать в своем выступлении насыщенное комическое действие с
остроумным словом, чаще всего тут же вдохновенно рожденном. Его реплики
вызывали взрывы хохота. Когда он приезжал в Тбилиси, то шутки его звучали на
грузинском языке, в Баку — на азербайджанском, в Минске балагурил по- белорусски.
И это всегда привлекало массу народа.
С этой первой встречи в гримировочной Енгибарова Донат Васильевич зачастил в
цирк, где его еще помнили старожилы «звездой» первой величины. А ведь путь от
его дома до улицы Подбельского был не близким.
За какие-нибудь три-четыре месяца до описываемых событий на окраине Одессы, в
курортной местности, именуемой Аркадия, что означает по традиционному
поэтическому толкованию — счастливая, обетованная земля, неподалеку от моря, на
холме, выросло красивое трехэтажное здание — Дом ветеранов арены. В нем-то и
поселился Донато.
Старые мастера, оторванные от манежа, тяжело переживали разлуку с любимым
делом, которому была отдана вся жизнь, и потому нередко наведывались в цирк:
повидаться с друзьями, узнать новости, посидеть на репетиции, да просто
подышать родным воздухом. И среди них самым частым гостем стал Донато.
Донато было уже за семьдесят, когда наметанным глазом он увидел по каким-то
одному ему известным признакам одаренность Енгибарова и загорелся желанием помочь
начинающему клоуну. Сохранился рассказ об этом самого Енгибарова. «Поверил в
меня старик, Не знаю, нянчился ли он так со своими сыновьями, как со мной,
Бывало, еще из коридора кричит: «Где мой Бамбино?» Так он меня называл.
По-итальянски это означает—«малыш». Всегда стоял в проходе, наблюдал за моей
работой. Только закончу интермедию, уйду с манежа, он уже рядом: «Здесь не
дожал... в том месте поторопился. А попробуй-ка вот так...»
Старый мастер увидел, что ахиллесова пята новичка — страх перед зрителями.
Незадолго до выхода Леонида на арену он отвел его в сторонку и стал внушать:
«Пойми, публика ждет своего Бамбино, ждет с нетерпением, и он шагнет ей
навстречу, радостный и веселый. Делать интермедии, смешить ему и самому
нравится. Сейчас он распотешит всех и удивит, потому что никому не повторить
его трюков... Значит, что? Значит, Бамбино — настоящий талант!»
Спокойный тон Донато, его природный оптимизм и бодрость передались молодому
клоуну, помогли творчески собраться, он ясно почувствовал: в этот вечер все шло
гораздо лучше, чем обычно.
Словно бывалый лоцман, Донато хорошо знал подводные камни в море комического.
Шаг за шагом он вводил своего подопечного в мир веселых улыбок, обращал
внимание на многие тонкости клоунской профессии, предостерегал от ошибок, учил
искать и пробовать: удачное — закрепляй, неудачное — вон!
В клоунаде замечания, которые делаются по горячим следам,— самые полезные. И
щедрые подсказки знатока были для Леонида настоящей школой. В особенности
высоко ценил он умение старого комедианта переставлять акценты. Реприза,
которая вчера шла лишь на улыбку, сегодня, после вмешательства Доната
Васильевича, выстреливала хохотом.
Давно известно, что в комизме, и особенно в цирковом комизме, даже малая
малость может иметь решающее значение. Здесь все зависит от магического
«чуть-чуть». А постигаются эти самые «чуть-чуть» долгими годами практики или
когда вам их щедро открывает опытный мастер.
«Наше содружество с Донато,— скажет Енгибаров позднее,— было потому
плодотворным, что он отлично знал клоунское дело, а я — современность».
Свои мысли Нестор буффонады, как Леонид называл про себя Старичкова, выражал
затейливо и мудрено. Охотнее всего пускался в рассуждения о рыжем клоуне. Самое
противное, на его взгляд, когда артист лишь прикидывается рыжим, выламывается,
а не живет в этом характере. Пусть Бамбино запомнит; рыжий должен быть у него
внутри, вот тут... Сам Старичков, по его словам, настолько вживался в своего
героя, что ему ничего не стоило где-нибудь на вокзале, за столиком в ресторане,
среди уличной толпы часами действовать от лица рыжего.
В другой раз принялся распекать грубость на манеже. Хамоватый рыжий хуже
горькой редьки. А того неприятней — злой комик. Вот уж этого никак нельзя
стерпеть! Рыжий — добряк, нежная душа. И человек веселый. Донато согласен: этот
плут может и вокруг пальца обвести, но никогда не разозлится и грубияном себя
не покажет. И заметьте: какие бы глупости ни вытворял, каким бы пентюхом ни
прикидывался, он всегда умный. И публика чувствует: «А малый-то не дурак...» Б
те дни работники Одесского цирка постоянно видели их рядом — прославленного
ветерана арены и приветливого молодого коверного. Енгибаров слушал наставления
опытного мастера, стараясь не пропустить ни слова, и навсегда сохранил в памяти
многие рассуждения этого клоуна-мудреца. Например, о публике, которую
полуитальянец Донато называл избалованной синьоририной. «Синьорина,— говорил
он,— чертовски привлекательна, но зато уж и разборчива, как сама Клеопатра. Да,
да.., А ты сумей пробиться сквозь толпу соперников, завладей ее вниманием,
понравься капризной синьорине, чтобы она предпочла тебя всем остальным. А для
этого научись угадывать ее настроение, прислушивайся к ее дыханию, наблюдай за
ней в оба...».
Здесь, в Одессе, молодой артист впервые почувствовал доброе расположение
«синьорины». Случалось, что она одаривала его приветливой улыбкой. И в эти
мгновения возникало вдруг такое единодушие со зрительным залом, что, казалось,
крикни сейчас всем этим людям что-нибудь вроде: «Аида на море!»—и весь цирк
поднимется и последует за ним. Но так бывало редко. А почему?
Вопросов у Леонида в ту пору было гораздо больше, чем ответов. Позднее,
вспоминая это время, он заметит: «Одесский цирк был для меня сущим беличьим
колесом... и я кружился в нем безостановочно, даже не имея возможности
переварить всю получаемую информацию». В те же самые горячие денечки судьба
счастливо свела его еще с одним знаменитым клоуном прошлого — с Якобино
(Лутцем).
Филипп Францевич Якобино дневал и ночевал в цирке. Обычно он появлялся как-то
незаметно, садился где-нибудь в сторонке, молчаливый и отчужденный. На вид ему
было далеко за семьдесят. Разглядывая исподтишка старого буффона в потертом
макинтоше, с пепельной щетиной на впалых щеках, Леонид, человек от природы
наблюдательный, понял: крепко же, видать, потрепала жизнь старика...
Однажды Якобино поманил к себе коверного и предложил кивком головы сесть рядом:
«Если желаете, молодой человек, я буду рассказать вам свои антре. Они имели
колоссальный фурор».
Леонид обрадовался: старинные антре он готов слушать день и ночь. Эти, теперь
уже мало кому известные комические сценки, которые принято называть антре и
которые некогда составляли основу клоунского репертуара, чрезвычайно
интересовали его. Привлекала откровенная наивность смешных ситуаций,
изобретательные подвохи рыжего-плута, его забавные стычки с белым клоуном,
способные смешить и ныне. Стремительно развивающийся конфликт предоставлял
отличную возможность для актерских импровизаций и для непринужденного
карнавального веселья. Успех антре целиком зависит от комедийного дара артиста.
Талантлив комик — и какая-нибудь «Отрава» становится маленьким шедевром.
Леонид сразу же внутренним чутьем ощутил житейскую неустроенность старого
клоуна, выходца из прибалтийских немцев. Прикрывая смущение панибратским тоном,
предложил: а не пообедать ли им вместе? Филипп Францевич охотно согласился. С
того раза совместные походы в столовую — за углом — стали ежедневными. Затем
после обеда они сидели где-нибудь в сквере или на цирковом дворе, и Якобино
пересказывал одно антре за другим: «Шпагоглотатель», «Аделина Патти»,
«Динамит», «Японская дуэль», «Ужин для директора», «Паук», «Фотограф»,
«Отрава», «Денежный шкаф», «Полет на Луну», «Трубадур» и снова свою любимую,
как понял Енгибаров, «Капеллу Ульманиса». Ни одна из этих буффонадных сценок не
имеет — как ни ищи — конкретного автора и определенного места рождения. «Паук»
или «Денежный шкаф» одновременно могли разыгрывать клоуны и в парижском цирке
Медрано, и в мюнхенском у Кроне, и в Королевском цирке братьев Кни в Швейцарии.
Наследуя антре от предшественников, каждый искусный клоун вносил в них что-то
собственное, обогащал какими-нибудь смешными деталями, расцвечивал вдохновенно
сымпровизированными веселыми шутками. Бывали удачные находки и у Якобино.
Говорил Филипп Францевич увлеченно, по-театральному нажимая на слова.
Содержание клоунад передавал в лицах, меняя интонации, текст произносил то за
рыжего, то за белого, и тогда его немецкий акцент становился особенно заметным.
В эти минуты былой любимец публики оживлялся, изборожденное морщинами лицо как
бы разглаживалось, молодело, он забавно таращил глаза, жестикулировал,
гримасничал, и в этом старомодном излишестве мимики была своя
привлекательность.
Молодой клоун слушал с профессиональной заинтересованностью, стараясь удержать
в памяти каждую подробность, ибо чувствовал — именно они, комические детали, и
есть самая суть смешного. Якобино помог -ему познать очарование цирковой
классики, проникнуть в стиль буффонадной клоунады.
Спустя несколько лет Енгибаров будет кусать себе локти: ну почему не записал
тогда все, что рассказывал ему старый клоун? Намеревался даже специально
слетать в Одессу с магнитофоном. «Вот только бы время выкроить...». Но
осуществить свое желание так и не смог. Одесский цирк — особенный. В каком
другом можно увидеть на местах для зрителей столько былых знаменитостей арены!
Вчерашний выпускник циркового училища тайком, с обожанием смотрел еще на одного
славного обитателя Дома ветеранов—Леона Танти, музыкального клоуна-сатирика,
имя которого еще, казалось, недавно гремело по всей стране. «Леон Танти,—
говорили им на уроках по истории цирка,— это целая эпоха в искусстве клоунады
20—30-х годов». И однажды тот сам подошел к Леониду. Сперва сдержанно похвалил,
потом выразил сожаление: досадно, что коверный не играет ни на каком
музыкальном инструменте. А ведь это в руках артиста — огромнейшая сила. Сделал
Танти замечание и относительно концовок в его репризах. Какие- то они... как бы
сказать? Расплывчатые. И вообще в его работе многое пока еще незрело.
Молодой клоун «зажался», стал колюч и надменен, на губах появилась вызывающая,
почти дерзкая усмешка. Но Танти не отступился. Вновь, в более мягком тоне,
завел разговор о концовках. Ведь финал цирковой репризы всегда должен быть
ударным — это выстрел. В свое время они с братом обдумывали каждый, даже
маленький номер, как это ни покажется парадоксальным — с конца. Сперва самым
тщательным образом отрабатывали финал, и лишь после этого — начало и середину.
Ломают, бывало, голову, ломают — не дается ударная точка, хоть плачь. Но пока
не возникала настоящая придумка, такая, чтобы полностью устроила обоих, поиск
не прекращался. «Так что, дорогой друг, если хотите иметь успех, не
успокаивайтесь, мучайтесь, ищите, и лишь когда почувствовали — вот она, можете кричать:
«Эврика!»
Леон Константинович любил сравнивать комическую манеру разных клоунов. Его
рассуждения на этот счет всегда были интересны, и Леонид тут же навострял уши.
Как-то раз Танти сказал, что решительно не приемлет механический комизм, когда
смешат не органичным юмором, не актерской техникой, а выверенными трюками.
Работал, например, лет тридцать назад такой Жакони. Слыхали? Нет, нет, не
Жакомино, о том особый разговор, а именно Жакони. Так вот у этого Жакони все
было на механике: под костюмом — целая система трубок, клапанов, пружин, клизм
с водой. Он дергал незаметно за нитку, и на лацкане пиджака возникала
хризантема, дергал за другую, и волосы вставали дыбом, дергал за третью — из
глаз лились слезы в две струи. Перед тем, как появиться на манеже, он долго
заряжался и выходил, с ног до головы начиненный сложными приспособлениями.
Допустим, Жакони говорил: «Спущусь-ка я в погреб». Нажимал на кнопку, и носок
его огромного клоунского ботинка откидывался, словно капот автомобиля. Клоун
вытаскивал... связку сосисок и сотку коньяка. Парше у него был также с
секретом, подобно цилиндру фокусника. Из него вылетал столб пудры, бил фонтан,
на макушке вертелся пропеллером хохолок, на лбу от удара раздувался громадный
волдырь и прочие и прочие сюрпризы. В клоунских штанах было смонтировано
сложнейшее пиротехническое устройство для «обстрела» шпрехшталмейстера.
Происходило это так. Жакони поворачивался к шпреху задом, нагибался и резко
выбрасывал назад ногу, будто собирался лягнуть. И в то же мгновение с оглушительным
треском из его штанов вылетал сноп искр. Вот так клоун выпаливал подряд до
шести-семи раз...
Совсем другим комиком был упомянутый Жакомино. Тот не признавал никаких
«зарядок». Он даже не приклеивал носа. Брал публику в плен, что называется,
голыми руками. И как смешил! Да-а, это был натуральный комик, с искрой божьей.
Умел так поглядеть на публику лукавым пристальным взглядом, что невольно
вызывал улыбку. Все, что он ни делал, было «от нутра»! Вот и ему, своему
молодому коллеге, старый мастер Танти желает быть таким, как Жакомино, и ни в
коем случае не таким, как Жакони.
Многое узнал Леонид от прославленного артиста о тонкостях клоунской
специальности, в том числе и о контакте с публикой, самом-самом важном, по
словам Танти, в их деле. Пока артист не научится общаться с публикой напрямую,
глаза в глаза, до тех пор ему настоящим клоуном не стать. Его, Танти, отец—он
был клоун дай боже! — учил сыновей завязываться, как он выражался, в один узел
с публикой. Леонид отметил про себя, что нервное, со впалыми щеками, необычайно
выразительное лицо этого итальянца по крови и русского по воспитанию слегка
зарделось, глаза оживились. Должно быть, он и сам чувствовал, что его
профессиональные напутствия идут впрок. «Общаться глаза в глаза»... Надо
полагать, что это очень существенно, если о том же самом так настоятельно
говорил и Донато.
Со временем Енгибаров со всей определенностью уяснит себе эту наиважнейшую
черту творчества любого клоуна — прямую зависимость от зрительного зала.
Да, конечно, способность устанавливать тесный контакт с публикой отличает
циркового комика от артистов всех других жанров. Разумеется, им тоже легче
работать, когда цирк полон, когда признание очевидно и сидящие на местах
оценивают их трюки щедрыми аплодисментами. И все же, на самый худой конец,
любой цирковой номер может быть исполнен даже без аудитории. И лишь клоун без
живого, непосредственного союза со зрителями просто беспомощен, он ничего не
стоит. Контакт или, точнее сказать, обратная связь между ареной и амфитеатром,
между тем, кто смешит, и теми, кто смеется,— самая суть этой профессии.
Творческое опекунство над молодым клоуном проходило далеко не гладко. Директор
Одесского цирка П. П. Ткаченко, вспоминая то время, рассказывал мне с веселой
улыбкой, что старики — и Донато, и Танти, и Якобино — отчаянно ревновали Леню
друг к другу, и парню приходилось всячески изворачиваться и «дипломатничать»,
чтобы никого не обидеть. Ведь это они помогли ему встать на крыло, они учили
его «делать смех».
К этим мастерам циркового комизма Енгибаров всю свою жизнь питал чувство
глубочайшей благодарности. Интересно, а как аттестовали своего подопечного сами
наставники? Вскоре после того как Енгибаров уехал из Одессы, мне довелось
беседовать с каждым из них. «Артист от макушки до пяток,— охарактеризовал его
Донато.— Я там кое-что ему подправил, и увидите, как еще развернется малец!..
Да я и сейчас его мало с кем поставлю рядом!..» Танти сказал: «Парень он
ершистый, то и дело коготки выпускал. Я к нему дня два ключи подбирал. Чем он
меня подкупил — так это своей увлеченностью. Похвально, что упорно ищет новое.
И много тренируется. Старые униформисты говорят: такого заядлого теперь не
часто встретишь... Конечно, он еще зелен, еще нет хватки. Но он выработается в
хорошего клоуна, я уверен. А что? Темперамент у него есть, юмор есть, двигается
прекрасно, живой — я себя молодого в нем увидел. Жаль только — не
разговаривает. Сколько ни спорили на этот счет, как ни убеждал его, что слово
на манеже всегда было и всегда будет на первом месте, нет — остался при своем.
Да-а, побудь он здесь месячишко-другой, я бы сделал из него настоящего
комика-простака».
Якобино был краток. На мой вопрос, что он думает о Леониде Енгибарове, ответил:
«Этот на месте». Насколько я знал Филиппа Францевича, в его устах сказанное было
высочайшей похвалой. Помолчав немного, он заметил: «Сколько молодых клоунов за
последние годы приезжало в Одессу, да все не то. Буффонадой брезгуют. А почему
брезгуют? Да потому, что не знают ее. А этот интересовался. На квартире у меня,
бывало, чуть ли не до утра засиживались, только говори ему, только рассказывай.
Наверно, тридцать или сорок антре выложил. И про старых клоунов выспрашивал».
Мнения старых артистов о молодом коллеге ценны тем, что служат дополнительными
черточками к творческому облику Леонида Енгибарова на переломном этапе его
жизни на манеже.
Формирование любого художника происходит под влиянием многих и многих факторов.
И в первую очередь он складывается под воздействием людей, престиж которых в
его глазах достаточно высок. После долгих лет разлуки Леонид встретился со
своим сводным братом Михаилом Енгибаровым, проживавшим в Одессе. Михаил почти
на двадцать лет старше, за плечами у него большой жизненный опыт. Он также не
был обделен дарованиями: хорошо рисовал, писал стихи, был видным спортсменом, а
у себя на заводе известен как талантливый рационализатор. «Впечатление от
встречи осталось глубочайшее,— рассказывал мне потом Леонид в восторженных
тонах.— Нам было друг с другом чертовски интересно. Михаил для меня — большой
авторитет, на многое я стал глядеть его глазами».
Итак, пришло время прощаться с Одесским цирком, с дорогими его сердцу людьми.
Он уезжал оттаявший и помягчавший. Все теперь представало в ином свете.
Недавние глумления уже не казались столь ужасными — он был отходчив. Даже в
надсадных криках чаек теперь уже не слышались, как недавно, жалобы на свою
долю... Вслед за любимым сказочником Хансом Кристианом Андерсеном Леонид мог бы
повторить, что и его «душа осветилась изнутри...».
Кризисная ситуация миновала. Енгибаров выдержал испытание на прочность. Из
своего боевого крещения он вышел хотя и в синяках, зато более сильным, более
зорким, вышел умудренным. В конце-то концов его переживания имели и
положительную сторону: закалили характер, что так важно для творческой личности.
4
В августе 1960 года Армянский цирковой коллектив начал гастроли в Астрахани. И
там, по воспоминаниям старожилов, произошло чудо: на долю Леонида Енгибарова
выпал настоящий успех. Коверный стал гвоздем программы.
В газете «Волга» было напечатано пространное интервью с ним, первое в его
творческой жизни. Администрация цирка, видя такой успех, в срочном порядке
выпустила специальную рекламу. Публика шла на Енгибаров а! У входа спрашивали
«лишний билет». Все это пришлось, если быть откровенным, не по вкусу вчерашним
премьерам программы.
Молодой коверный, однако, не почил на лаврах. По- прежнему вес его усилия были
направлены на профессиональное совершенствование, на тщательную отработку
трюков и реприз. День ото дня росла его комедийная техника, крепло актерское
мастерство. Теперь каждый раз, когда он уходил с арены после очередной
интермедии, испытывал незнакомое прежде чувство удовлетворения.
Выстраданный успех укрепил его дух, дал выход положительным эмоциям, еще вчера
подавляемым неудачами. Это было психологическое раскрепощение. К нему вернулось
светлое восприятие окружающего мира, вновь он был весел и общителен, вновь
потянулся к добрым друзьям-книгам, к музыке, к людям. Вновь полон творческой
энергии. Успех принес и радость художественных озарений, удачных находок. И в
этом был глубокий смысл, ибо, как тонко подметил выдающийся армянский художник
Мартирос Сарьян, «радость, а не боль является источником вдохновения».
В интермедиях астраханских гастролей уже проглядывали зачатки подлинного искусства,
наметилась завязь будущих творческих плодов. Эйзенштейн в своих записках
сказал, что в ранних работах всегда заключена какая-то клеточка того, что
осуществится в дальнейшем. И в самом деле, за развлекательной юмореской
«Баланс» проглядывала философская интермедия «Катушки». Первый успех в
Астрахани стал прелюдией к московскому, ленинградскому и пражскому триумфу.
Несмотря на очевидный успех Енгибарова у зрителя, критики не были единодушны в
оценке его творчества. Старые консервативные подходы к образу коверного мешали
некоторым из них разглядеть новаторство артиста, увидеть значимость его
вклада" в искусство циркового комизма,
На страницах профессионального органа «Советская эстрада и цирк» стали
появляться друг за другом статьи, в которых коверного упрекали за
нетребовательность к репертуару, за то, что ему «изменяет чувство такта»,
отмечалась малая значимость сценок и неумение «выбрать в герое самое типичное,
а отсюда — какая-то приблизительность». Затем последовал полный разнос: «Как он
одет? На голове старорежимный котелок, на ногах невозможные ботинки с
подчеркнуто квадратными носами — такие, каких и в цирке теперь не увидишь! А
маска? Трагическое лицо, напоминающее лица комиков из итальянских
неореалистических фильмов... смотреть на него было неловко».
Енгибаров болезненно воспринимал критику — она казалась ему несправедливой и
тенденциозной.
Что же происходило в действительности? На мой взгляд, имело место типичное
опережение своего времени, отличающее всякое смелое новаторство. В устоявшийся
мирок клоунады с привычным набором масок и однозвучным хором затертых реприз
ворвался вдруг свежий и сильный голос, настолько ни на кого не похожий, что
поначалу одни не сразу сумели разобраться в этом, а другие — просто не приняли
его. Уж очень сильна в цирке приверженность к привычному, к шаблонам.
И все же, как ни горьки были упреки, актер не дал воли обидам. Истинный талант
тем и силен, что вопреки всем невзгодам и препятствиям неукоснительно движется
вперед. Енгибаров взыскательно пересмотрел весь свой репертуар. И многое
увиделось ему в новом свете. Некоторые интермедии и репризы самому показались
развлекательными пустячками.
Первым делом он исключил сценку, исполняемую после номера «Бронзовые статуи».
Это была пародия на выступление группы прекрасно сложенных акробатов,
демонстрировавших пластические позы и пирамиды. Тела атлетов были покрыты
бронзовой краской. Тотчас после того, как они покидали манеж, на пьедестал
взбирался коверный в нелепейшем виде: на голове ушанка, на руках меховые
рукавицы, в пальто, подпоясанном веревкой, на которой пониже живота стыдливо
болтался фиговый лист, а из-под пальто торчали голые ноги. Это огородное пугало
тоже пыталось принимать красивые акробатические позы. Абсурдная претензия
выглядела довольно забавно и неизменно вызывала смех нетребовательного зрителя.
Актер почувствовал, что перерос эту форму клоунады, основанную на чрезмерном
сгущении красок.
Отказался он и от «Тореадора». В этой сценке два помощника коверного облачались
в шкуру быка, искусно изготовленную бутафором; бык выглядел очень комично и
обладал агрессивным характером, а тореадор-Енгиба-ров, наоборот, был робок и
неуклюж. В финале горе-бойцу с трудом удавалось выбраться из-под навалившейся
на него туши. И тут обнаружилось, что не грозный бык, а сам он проткнут
насквозь шпагой. Свирепый поединок не ложился в характер его лиричного героя. И
к тому же действие было выстроено примитивно. Без сожаления расстался Леонид и
еще с одной пародийной шуткой, которая исполнялась после выступления воздушной
гимнастки. Коверный подходил к опущенной трапеции и, влекомый любопытством,
робко брался за гриф, и в тот же миг его вместе с трапецией подтягивали на
блоках под купол. Изображая перепуганного насмерть человека, гимнаста поневоле,
клоун беспомощно дергался в цирковом поднебесье и смешно дрыгал ногами. Вот,
собственно, и все,
В дальнейшем Енгибаров к пародиям не прибегал, чурался и лобовой, по его
выражению, сатиры. В особенности после того, как потерпела провал клоунада
«Стирка», рассказывавшая о плохой работе прачечных. По этому поводу артист
выразил свою творческую установку достаточно определенно: «Использовать манеж
для того, чтобы сказать: «Сегодня у нас в бане не было воды», значит низводить
цирковое представление до разряда рабочего заседания ЖЭКа». Он многократно
повторял мысль о том, что категорически не приемлет серость, бытовщину, ибо она
способна, на его взгляд, «убить всю сказочность, всю романтику циркового
спектакля». Этого направления Леонид Енгибаров будет придерживаться и в
дальнейшем.
Столь же решительному переосмыслению подвергнется и образ его сценического
героя. Путь, пройденный героем Леонида Енгибарова по манежу, можно разделить на
три примерно одинаковых этапа. Исходный — когда молодой артист делал на ощупь
первые шаги, а его клоунский характер был еще схематичным. Второй этап связан с
Одессой и той школой, которую он прошел у знаменитых смехотворов старшего
поколения — Донато, Якобино и Танти. И наконец, третий этап — этап духовной и
творческой зрелости актера, когда определилась его эстетическая позиция,
возросла требовательность к себе и к своему сценическому образу, В иных случаях
вместо слова «образ» по отношению к кинокомику и цирковому клоуну применяется
термин «маска». Различие между образом и маской и по сию пору — предмет споров
цирковедов. Замечу, что для людей арены в их повседневной практике эти два
понятия равнозначны. Так что и мы будем рассматривать их как тождественные,
разумеется, с известной долей условности. Еще в стенах циркового училища Леонид
пытался определить для себя клоунскую маску. Сперва думал выходить на манеж в
образе полюбившегося кинокомика Бестера Китона, потом — бедолаги-униформиста;
привлекал его и традиционный рыжий. Однако на фотографиях, запечатлевших
Енгибарова на первом этапе, во время выступлений в Новосибирске, Харькове и
Одессе, мы видим его в костюме весьма неопределенном — ни рыжий, ни эксцентрик.
Первым толчком к рождению знакомого всем енгибаровского образа послужило
замечание Донато. Однажды среди множества советов и наставлений он как бы
вскользь обронил, что в характере Бамбико есть что-то ребячливое. И это хорошо!
Чем больше у клоуна детских черточек, тем он обаятельней. Пусть Бамбино сядет в
амфитеатр, отключится от всего и пристально глядит на манеж. И если будет
хорошо глядеть, то обязательно увидит, как на ковре куролесит молодой
клоунишка-озорник. Вот таким пусть он и станет.
В результате целенаправленных размышлений о клоунской маске Енгибаров все
больше склонялся к характеру подростка—именно здесь молодому артисту виделось
зерно будущего образа. Ему всегда нравилось наблюдать за детьми, увлеченными
какой-нибудь игрой. Как никто умеют они все оживлять своей фантазией: рукавичка
у них — котенок, палка — лошадка, обыкновенный стул — космическая ракета, а
дырявая кастрюля, подобранная во дворе,— каска; игра для ребят — дело
серьезное, и занимаются они этим с полной отдачей, со всею искренностью. И
вместе с тем каждый из них понимает: это просто так, понарошку. И здесь — сама
суть лицедейства. Подобно детям, актеры захвачены своей жизнью в образе и
одновременно осознают: это лишь сцена, лишь манеж, что, впрочем, не мешает им
испытывать чувство высочайшей творческой радости.
В книге «На арене советского цирка», этой антологии клоунского опыта, М. П.
Румянцев (Карандаш), размышляя над сущностью своего сценического образа,
приходит к заключению, что в нем главенствуют черты ребячливого любопытства.
«Мой герой,— пишет он,— с детской непосредственностью реагирует на каждое
смешное положение. Ему до всего есть дело». И далее, раскрывая «секреты» своей
работы над репертуаром, компасом в которой подчас служила ему психология
ребенка, маститый клоун говорит: «Встречая трудности в решении некоторых
реприз, я нередко ставил перед собой вопрос: а как сделал бы это ребенок? Такой
путь решения темы... является очень плодотворным,— дети, как известно, охотно
подражают взрослым, и чаще всего это получается у них очень смешно».
Клоуны издавна перенимали у детей их повышенную эмоциональность и делали ее
доминантной чертой своего сценического характера. Кроме Карандаша в качестве
«взрослых детей» выступали и Нико Полушкин, и Василий Бартенев, и Николай
Лавров, и Коко, и Якобино. Но акценты все эти мастера смеха расставляли
по-своему. Если, скажем, Полушкин и Коко (Лутц) откровенно играли
кретиноподобных переростков, то герой Бартенева был обаятельным малышом с
доверчивой душой, Лавров представал на манеже шумным задирой, а Якобино —
непоседливым проказником... Чертами ребячливости наделен и образ, созданный
сверстником Енгибарова — Андреем Николаевым.
Впрочем, «большие дети» населяют не только манеж, но и театральную сцену, и
киноэкран, и даже страницы серьезных книг. С. Эйзенштейн, к примеру сказать,
посвятил специальное исследование психологии детскости в характере Чарли
Чаплина. Некоторые люди как бы отмечены постоянными чертами детскости. Скажем,
поэт Борис Пастернак в представлении его ученика Андрея Вознесенского—это
«вечный подросток, неслух». Забавную героиню популярного мультипликационного
фильма, старуху Шапокляк, кинорежиссер Роман Качалов относил к тем симпатичным
ему людям, «которые навсегда сохранили в себе детство». Ту же самую мысль
по-своему выразил и Енгибаров. На страницах одного из блокнотов он записал
торопливым почерком: «Среди взрослых много хороших людей, которые притворяются,
будто они взрослые. На самом деле они гораздо лучше...»
У ребенка особая система мышления, необыкновенно близкая клоунской. Ребенок
уверен, что коровы белой масти дают молоко, а темной — кофе. Типично
по-клоунски! Входя в мир, где вес ново, где все непривычно, ребенок воспринимает
жизненные проявления непосредственно, с пригорочка своих лет. Ребенок, как и
клоун, полон наивного удивления. И наконец, все эмоции — страх, обида, радость
— выражаются ребенком с такой эмоциональной силой, на какую он только способен.
И это свойство дает клоуну повод выражать свои чувства преувеличенно. Да,
безусловно, неустоявшийся мир озорного детства — прекрасная почва для
всевозможных комических проделок. Итак, решено: это должен быть ребенок или,
лучше, подросток с присущими ему искренностью и веселым озорством, Выпустить
его в манеж Енгибаров решил под именем «Леня», отдавая в некотором смысле дань
моде. Прежде цирк не знал уменьшительных имен-псевдонимов. Был Анатолий Дуров,
был Виталий Лазаренко, многие клоуны брали иностранные имена: Мишель, Пьер,
Жорж, Макс, придумывали псевдонимы-образы: Бим-Бом, Коко, Глупышкин, Биль-Виль,
братья Аякс, Карандаш. И лишь в 6О-е годы появились Юрик (Никулин), Андрюша
(Николаев), Гоша (Афанасьев). Что поделаешь, мода въедлива. В искусстве она
рождает штампы, отказываться от которых не так-то легко, в особенности если
твой жизненный опыт невелик, а вкус еще незрел.
Разрабатывая намеченный сценический характер, молодой коверный осмысливал то,
что слышал и записывал в училище на занятиях по мастерству актера, сопоставлял
прочитанное с рассказами цирковых ветеранов. Для него было важно знать о своем
герое как можно больше. Кто он, каковы его индивидуальные особенности,
темперамент, пристрастия, что любит, что не приемлет, привычки, причуды, имеет
ли какой-нибудь «пунктик»? Завел тетрадку: «Досье на моего клоунского
персонажа. Параграф первый — корни, происхождение: кто родители, какое получил
воспитание, круг связей, друзья-приятели, духовный облик». Ему хотелось постичь
динамику внутренней жизни своего будущего героя, проникнуть в сердцевину
характера.
Штрих за штрихом, деталь за деталью стал вырисовываться пока лишь общий контур
героя.
Итак, Леня — дитя своего времени, мальчишка космической эры. Он начинен
сведениями о невесомости, о ракетоносителях, об открытом космосе; на языке у
него имена Гагарина, Леонова, Николаева; в ходу слова: «орбита», «спутник»,
«апогей», «перигей».
Как и другие подростки, Леня, конечно же, прочитал «Витю Малеева в школе и
дома» Н. Носова и «Кортик» А. Рыбакова. По нескольку раз смотрел на экране
«Подвиг разведчика», «Овод», «Судьбу человека»; от души смеялся, глядя на
«Неподдающихся», замирал во время демонстрации «Золотого эшелона» и
«Великолепной семерки». Был очарован Павлом Кадочниковым, Николаем Рыбниковым,
Олегом Стриженовым. Конечно, он слышал что-то о четверке «Битлз», увлекался
стереофонической музыкой. Все это вместе взятое и повлияет на сценический
характер енгибаровского сорванца, повлияет, быть может, не впрямую, а
опосредованно.
Разрозненные записи и высказывания Енгибарова позволяют составить некоторое
представление об основных свойствах характера мальчишки. «Леня вырос в большом
городе,— говорит актер в своих записках,— в нем как-то стерлись ярко выраженные
национальные черты, хотя он явно восточного происхождения». Его влечет к себе
вес таинственное, притягивают опасные похождения. Как знать, быть может,
обуянный жаждой приключений, он и сбежал из дому, вырвался из-под докучливой
родительской заботы и попал в цирк.
Не чужд он и лирических порывов. «Мой герой, конечно, озорник, но с душой
нежной и мечтательной». «Радости и огорчения проявляются в нем с детским
прямодушием». «Чувства у него проворней разума». «У Лени бездна нереализованной
энергии, он предприимчив, как маленький бродяжка Чарли в чаплинских фильмах,
что сплошь да рядом приводит его к комическим казусам». Юноша этот стоит на
пороге жизни, на рубеже взросления, отсюда и острое, даже острейшее восприятие
окружающего мира, отсюда — и эксцентрические поступки. О своем герое Енгибаров
говорит как о человеке совестливом и скромном, настаивая на этой черте его
характера: «Все сложные цирковые трюки он выполняет,— написал актер в статье «О
самом себе»,— не придавая им особого значения». И здесь, по его мнению,
намечалась еще одна предпосылка для юмора.
Не известно, был ли Енгибаров знаком с наставлением великого Щепкина, который
требовал от актеров умения «складывать характер», но действовал именно так.
Свидетельство тому его собственное признание: «Мой образ был сначала придуман,
даже написан, а потом сыгран». А как вообще рождается в искусстве и литературе
художественный образ? Об этом, положим, сказано достаточно много. Мне
представляется интересной мысль писательницы Веры Пановой; в письме другу она
сообщала в шутливом тоне, что в своей работе пользуется библейским рецептом
творения: «Лепишь из глины, потом вдуваешь душу живую. Ты автор — твое дыхание.
Чужое не оживит глиняных фигур». Вот и весь метод. Итак, вылепить воображаемую
фигуру и вдохнуть в нее живую душу. Как это просто — и вместе с тем как сложно!
Тем более если ты клоун-мим и не пользуешься словом, не говоришь смешных
реприз, сочиненных писателем, а выражаешь мысли и чувства пластикой тела. И тут
к месту сказать несколько слов об особенностях построения циркового образа и о
тех специфических средствах, какими при этом пользуются. На манеже иной, нежели
на театральных подмостках или в кинопавильоне, подход к отражению реального
мира, иной принцип лепки характера. В цирке чаще всего выделяется и укрупняется
какое-то одно человеческое свойство: ловкость, например, сила, отвага,
глупость, находчивость и тому подобное. Это, впрочем, не означает, что характер
циркового персонажа строится всего на одной из названных черт. Нет, она лишь
доминирует, а вместе с ней присутствуют и другие. Раскрывается же цирковой образ
в основном посредством трюкового действия. Именно в этом и состоит его
специфика.
Енгибаров избрал доминирующей чертой ребячливую проказливость. Его всерьез
занимало, в какой степени «юмороподъемен» такой характер. Способен ли он
выдерживать комедийную нагрузку? С этой целью артист придумывал различные
забавные ситуации и ставил в них своего подростка, побуждал к эксцентрическим
поступкам, прикидывал: «А как бы мой мальчуган повел себя в таких-то
обстоятельствах? А как в таких? Сталкивал его с инспектором манежа, с
униформистами, с партнером по боксу. Пробные этюды (лабораторные, как назвал их
он сам) показали, что и создаваемый образ и его творец на верном пути.
С не меньшей серьезностью отнесся Енгибаров и к внешнему облику своего героя.
Этому все клоуны придают большое значение. Если взглянуть на фотографии
корифеев мирового цирка, то можно увидеть, какое здесь царит разнообразие брюк,
пиджаков, жилетов, пальто, головных уборов, какое причудливое сочетание фасонов
и расцветок! О том, как именитые мастера находили свой оригинальный сценический
облик, можно прочитать в их мемуарах.
История цирка знает случай, когда удачное клоунское обличье было заимствовано
даже с рекламного плаката. Произошло это следующим образом. 29 февраля 1924
года в Париже состоялось открытие шикарного цирка-мюзик-холла «Ампир». Модный
художник Эдуард Аллуз специально к премьере создал изящный плакат, настоящее
произведение искусства. На нем была изображена статная танцовщица, которая
глядела из-за ярко-красной портьеры на забавного рыжего. Эта зазывная реклама
украсила улицы города, неизменно привлекая внимание парижан.
В программе «Ампира» клоуном у ковра подвизался начинающий артист Булико.
Кто-то из друзей посоветовал ему скопировать маску с полюбившегося всем
плаката. Счастливая мысль! Булико заказал себе точно такой же клетчатый пиджак,
такой же парик — пышную зеленую шевелюру, такую же крошечную шапочку, которая
щеголевато прилепилась на макушке, и, наконец, взял ту же завершающую деталь
костюма — гигантский галстук-бабочку. В этом костюме и гриме Булико с успехом
проработал всю свою творческую жизнь.
Вернемся, однако, к поискам Енгибарова. Известно, что внешний вид активно
помогает выявлять самую сущность клоунского образа. А в его работе пантомимиста
костюм должен отвечать еще одному немаловажному требованию — быть удобным для
выполнения цирковых трюков. Это для Якобино, для Коко, Эйжена, Мишеля Калядина,
Петра Лаврова их суконные пиджаки и пальто не помеха—им не надо было
кувыркаться: они буффоны. Но каким же все-таки должен быть внешний вид его
мальчишки? Облачаться, как Ника Полушкин, в детскую синюю матроску, белые трусы
и огромные желтые сандалии с голубыми носочками ему не хотелось. Своего,
оригинального, ничего в голову не приходило. Позднее Леонид вспоминал: «Вот уж
не думал, что собственный клоунский вид окажется столь крепким орешком...»
Насколько проще было актерам древнегреческого театра: если на твоем одеянии
желтая полоска, ты в глазах публики счастливец, а если зеленая — неудачник...
Енгибаров пытался рассуждать логически: костюм на клоуне должен со всей
определенностью говорить о принадлежности героя к современной действительности.
Что сегодня носит молодежь? Чаще всего видишь на улицах парней в полосатых
трикотажных фуфайках спортивного вида. Эврика! Фуфайка в яркую поперечную
полоску — это как раз то, что Лене надо. А вместо галстука — повязать по-
ковбойски шелковую косынку...
Посложнее оказалось найти форму и цвет брюк, к чему все клоуны особенно
требовательны. Опытным артистам известно, что ноги комика способны отлично
подчеркивать смешные положения, а в иных случаях и выявлять черты характера.
Брюки как раз и призваны усиливать это впечатление. У буффона, кроме того,
штаны часто служат для различного рода трюковых зарядок, могут неожиданно
спадать, лопаться от натуги по швам, и потому их шьют самых причудливых фасонов
и, как правило, подбирают броскую расцветку: елочкой, в горошек, в полоску, в
клетку. Но клоун-мим не должен скрывать ноги под широкими складками материи,
иначе не будет видна пластика тела. Вот почему Енгибаров решил остановить свой
выбор на черном трико, в каком некогда выступал замечательный эксцентрик Алекс
Цхомелидзе. Молодой коверный был уверен, что его худые мускулистые ноги в
облегающем трико будут выразительны.
Итак, поиск вроде бы закончен. Но однажды он увидел на улице иностранных
туристов в темных узких брюках. Новая мода, непривычная на первый взгляд, все
же перевесила.
Оставалось определить головной убор и обувь. С последней, впрочем, не было
хлопот. От Якобино и Донато он знал, что ботинки увеличенного размера придают
рыжему комическую завершенность. Недолго думая, Леонид отправился в пошивочные
мастерские Союзгосцирка. И там немало удивился обилию сапожных колодок самых
различных размеров и фасонов: бульдожистые, остроносые, «утиные», лодочками —
на любой вкус! Через две недели он уже щеголял в больших черных клоунских
туфлях.
Сложнее оказалось с головным убором. Енгибаров перемерил в костюмерной
множество шапок, фуражек, кепи, панам. И в конце концов остановился на
поношенной мужской шляпе, словно бы извлеченной из старого домашнего сундука.
Не беда, что потрепана. Ведь и помятый цилиндр на голове Бипа, героя Марселя
Марсо, не от лощеного франта, а от прозаической одежды трубочиста. Большая, не
по размер/ шляпа, лихо сдвинутая на затылок, в контрасте с молодежной фуфайкой
и черными узкими брюками придавала внешности Леонида определенную
характерность. Нашлась и такая забавная деталь— предложение матери — лямка на
штанах. «Обязательно одна, вторая, вероятно, безвозвратно утеряна. Так он и
впрямь будет выглядеть озорным мальчуганом». И последнее, что надо было,— найти
грим. Прибегать ли к накладкам? Пользоваться ли париком, и каким именно? Одну
за другой рассматривал фотографии известных в свое время рыжих. У Якобино —
блондинистый парик с пробором посередке. У Брыкина — голова «ежиком». Золло —
шатен со смешным хохолком на лысине. У Николая Лаврова — оголенный высокий лоб,
и лишь на затылке торчком густой бордюр. Олег Попов выбрал парик
золотисто-пшеничного цвета, стриженный «под скобу», словно у сказочного
Иванушки. А как выходить на манеж Лене?
Поразмыслив глубже, артист решил, что надевать парик не станет, потому что это,
как ему казалось, противоречило стремлению быть современным. И гримом
пользоваться лишь минимально, только чтобы подчеркнуть мимику.
Человек наблюдательный, он заметил, что все чаще молодежную прическу украшает
челка. Она-то и стала завершающей деталью внешнего облика его героя. В то время
это был смелый шаг для циркового манежа.
И вот герой Енгибарова одет и обут. Но совпадает ли его внешний вид с
внутренним содержанием образа? Ответить на этот вопрос мог только зрительный
зал. И новорожденный персонаж в многоцветной полосатой фуфайке, в черных брюках
узкого покроя, с лямкой через плечо, не слишком-то уверенно шагнул на яркий
круг арены...
Шли дни. Молодой артист, хотя и окрыленный первыми успехами, ощущал, что
заданный характер еще не стал родным своему создателю, еще не лег, по его
словам, на душу. И это рождало гнетущее недовольство собой. Когда во время
одной из бессонных ночей он глубоко задумался — в чем же причина
неудовлетворения — ему вдруг живо вспомнился завет Донато: «Не изображай
клоуна, а будь им». По ассоциации всплыли и слова Танти: «Клоун — ваш двойник.
Артист, который взялся за роль клоуна, должен слиться с ним в одно целое, жить
его жизнью, чувствовать, как он, думать, как он, глядеть на мир его глазами».
Так вот, значит, в чем дело. Между ним, артистом, и его героем нет внутренней
слитности. Да и сам образ в том качестве, в каком артист сейчас предстает перед
зрителями, пока еще далек от совершенства. Часто в его поступках, как теперь
понимал Енгибаров, отсутствовала художественная логика. Выходит, маска еще
сырая, еще должна дозревать... Процесс доводки проходит и новый театральный
спектакль, и новое эстрадное ревю, и цирковой номер. Особенно нуждается в
доводке клоунский образ. Не день, не месяц — годы длится формирование характера
клоуна. Артист неустанно корректирует поведение своего героя, уточняет его
поступки, реакции, оценки, эмоции. Одни черты характера усиливает, другие
притеняет, от третьих вообще отказывается. Его конечная цель — сделать
клоунский образ живым, полнокровным, убедительным и доходчивым, чтобы в нем
ярко засверкали все краски жизни.
Добивался актер и более тесного контакта со зрительным залом, ибо стал
понимать, что именно это и превращает людей, сидящих вокруг арены, из пассивных
созерцателей в активных сотворцов. Когда удается установить контакт, тогда, но
словам Енгибарова, «наступают счастливейшие минуты духовной близости между
манежем и амфитеатром».
В предисловии немецкого исследователя театра, кабаре, варьете и цирка Ганса
Гейнца Эверса к книге «Жизнь трех клоунов», посвященной замечательным мастерам
смеха братьям Фрателлини, он подчеркнул то место, где говорится, что «клоуны и
публика являются и медиумами и гипнотизерами одновременно». Это происходит,
уточняет автор предисловия, одинаково бессознательно у обеих сторон. Енгибаров
приписал карандашом: «Эверс называет это взаимодействием, а я — взаимосвязью».
Но чтобы возникла такая взаимосвязь, образ должен обладать притягательностью,
иначе говоря, тем качеством, какое Станиславский называл «манкостью».
«Зрительское расположение,— сказал Енгибаров в одном из интервью,— позволяет
мне менаду веселыми шутками проводить и серьезные мысли. Ведь в жизни к
человеку, симпатичному нам, мы всегда относимся доброжелательно». И он
намеренно стремился наделить сценический характер Лени обаятельными чертами.
Тогда, в Одессе, в бурном круговороте событий начинающий коверный не задумывался
над тем, какой смысл вкладывали в свои слова его наставники. «Рыжего делает
публика»,— говаривал Донато. Ту же мысль настойчиво внушал ему и Танти; «Без
аудитории даже даровитый артист не станет клоуном». Да и от Якобино слышал не
раз: «Мало в цирке публики — белый как-нибудь проведет антре, а рыжий —
скиснет». Теперь эти суждения опытных клоунов Енгибаров воспринял по-иному. Они
открылись ему во всей своей внутренней значимости. «Рыжего делает публика...».
Вот он, Архимедов рычаг!
Любой актер знает, какое сильное, порой решающее воздействие на художественную
отделку новой роли оказывает зрительный зал. Своим коллективным эмоциональным
откликом аудитория безотчетно ведет своеобразную режиссерскую работу. Не
случайно же К. С. Станиславский называл зрителя третьим творцом спектакля.
Именно они, зрители, как стал тогда отмечать молодой коверный, своей реакцией
наталкивали его на правильные решения, помогали находить естественное
самочувствие, расставляли акценты, корректировали черты характера, короче говоря,
энергично шлифовали сценическую маску Лени.
Медленно, от представления к представлению, крупица за крупицей, будет
выстраиваться образ, обрастать достоверными деталями, крепнуть правдивостью
поведения — и все это под прямым, непосредственным, ежевечерним воздействием
зрительного зала. (Сохранилась запись в енгибаровском архиве: «Наилучший
режиссер для клоуна — публика».)
Енгибаров полностью слился со своим героем, и настолько входил в его плоть, что
становился двойником Лени. В этом смысле слова Марселя Марсо: «Бип — это мое
второе «я», он мог бы отнести к собственному творческому самовосприятию. Теперь
ему и самому было видно: исчезли белые нитки, которыми первоначально была
сметана роль. Ушла заданность, проступило живое человеческое лицо, появились естественные
жесты. Его жизнь на манеже стала органичной, а веселость — заразительной.
Ребячливость Лени проявлялась в неожиданной смене настроений, в щенячьем
любопытстве, в неугомонности и постоянной потребности выискивать забавы. И
наконец, в протесте против всяческих запретов. Этот егоза и шалун относился ко
всему, что окружало его в манеже, с безудержной предприимчивостью. Ему все
хотелось попробовать самому, во все вмешаться, все примерить на себя. Он бурно
радовался удачам и не менее бурно огорчался промахам.
Однако раскованность Лени на манеже порой становилась чрезмерной, что придавало
образу некоторую негативную окраску. В его поведении обозначилась излишняя
напористость и даже самоуверенность. Проказник стал слишком настырным в
преодолении препятствий. Его стремление подразнить инспектора манежа, человека
степенного и немолодого, к тому же находящегося при исполнении служебных
обязанностей, граничило с дерзостью. В иных его поступках усматривалась
определенная жестокость, свойственная детскому возрасту, та самая, какую
Эйзенштейн в упомянутом исследовании «Чарли малыш» назвал детской свободой от
оков морали.
По счастью, Енгибаров и сам заметил отрицательные черты, появившиеся в
характере своего героя и приложил все усилия, чтобы свести их на нет.
В дальнейшем артист главное внимание стал уделять нравственной стороне образа
Лени. «Трафаретная клоунская маска,— сказал он в одном из интервью,— редко
несет в себе человечность. А несет только одну краску — дежурный смех, оптимизм
по любому поводу. Моему же герою свойственно и смеяться, и переживать, и
плакать, и страдать, и чувствовать себя ответственным за все, что происходит
вокруг него».
Гуманизм клоунской профессии, видимо, основательно занимал Енгибарова. Во
многих своих статьях и интервью он в той или иной форме возвращался к этой
теме. По его утверждению, клоун должен быть не только смешным, но и теплым, ибо
сквозь его чудачества всегда проступает живая личность. Какая она — зрителю не
все равно. «Настоящий клоун,— писал он,— не унижает, а возвышает человеческое
достоинство». Развивая эту мысль, Леонид Георгиевич говорил, что подлинный
мастер смеха в подтексте своих веселых шуток внушает мысли о доброте и
отзывчивости. «Клоун всегда должен оставаться человеком» — это слова из его
интервью незадолго до смерти.
В последние годы достаточно было хоть раз увидеть Енгибарова на манеже или на
эстраде, чтобы составить себе представление о богатой натуре его героя.
Благородная отвага и великодушие стали сутью его интермедий и особенно таких,
как «Бокс» и «Статуя». Это впечатление складывалось из отдельных
психологических черточек и деталей. «Хотя Леня выглядит физически слабым,—
писал артист,— духом он сильный... Отзывчивая клоунская душа — вот мой нынешний
идеал». Так выразил он свою нравственную позицию в искусстве.
В пору творческой зрелости актера у созданного им образа появился второй план,
который можно было бы определить как психологическую углубленность. В нем и
трогательная доверчивость вечного неудачника, и неожиданная остроумная
находчивость хитреца, замаскировавшегося простофилей, и безудержное веселье, и
мимолетная грустинка. Но, пожалуй, самое главное — подчеркнутая детская
непосредственность. Казалось бы, эти взаимоисключающие свойства не конфликтуют
между собой, скорее всего, они говорят о многослойности его внутреннего мира.
Все действия Лени на манеже теперь уже диктовались логикой его характера. Но
освещены они были личностью его создателя и совершались под его невидимой
опекой. Недреманное око «родителя» постоянно наблюдало за поведением своего
«отпрыска», наблюдало с едва приметной насмешливой улыбкой.
Театроведов издавна занимает проблема — сколько актер вносит в образ от себя.
Что касается конкретного случая, то можно с определенностью сказать, что
личность артиста весьма существенно влияла на характер клоуна Лени. Енгибаров
не растворялся в роли без остатка, не прятался за маской, а, напротив, выражал
собственный взгляд на происходящее, что вполне соответствовало современной
манере актерской игры. Перед нами представал одновременно и сам актер и
созданный им образ. Вот Леня — проказливый подросток, а вот Леонид Енгибаров,
актер и человек, который как бы со стороны смотрит на поступки своего героя то
с легкой иронией, то с удивлением, а то вдруг поощрит доброй улыбкой
возрастающую в нем самостоятельность.
Духовно обогащаясь сам, актер стремился «поднимать» и своего героя. Это
воздействие личности художника на воплощаемый образ проявлялось необычайно
ярко. Не знаю другого циркового комика, у которого бы столь же объемно
совмещались эти два начала—творческое и личностное. Ну, разве что у Андрея
Николаева.
Духовное взросление Лени занимало Енгибарова все более и более. «Теперь, когда
мой герой уже уверенно шагает по манежу,— писал он в 1969 году,— хочется
поставить перед ним задачи посерьезней, может быть, приблизить даже к каким-то
философским проблемам». В одном из интервью, касаясь своего героя, Леонид
заметил; «Хочу проникнуть в глубины его душевных движений ». Сказанное
отражает, как мне - представляется, стремление актера полнее раскрыть
внутренний мир персонажа, дать психологическое обоснование его поступкам. А в
другом интервью он выразился более определенно: «Я стремлюсь к
интеллектуальному комизму». Отныне эта направленность будет в его творчестве
определяющей, что, кстати, совпадало с требованием времени.
Современный зритель хочет видеть на цирковой арене не только поражающие
воображение трюки, не только комические проделки, но и яркую образность и
драматический конфликт, а более того—постигать внутренний мир актера, его
мысли, если актер, конечно, является личностью. Известный эстонский режиссер
Вольдемар Пансо заметил: «Хорошие клоуны — явление куда более редкое, чем
трагические актеры. Страдание требует души, шутка—души и ума». Этими двумя
свойствами и обладал Леонид Енгибаров, вошедший в историю цирка как большой
клоун, смех которого все чаще приобретал горечь, ту самую, какую старый король
Лир отметил в мудрых сентенциях своего придворного шута— «ты горький шут».
Обостренная чуткость к типическим явлениям действительности позволила ему
художественно убедительно воплотить прежде незнакомые в искусстве клоунады
черты характера своего современника, молодого человека 60-х годов: открытость,
нравственную чистоту, лиричность, а рядом — иронию, добродушие и чувство
собственного достоинства. В отдельные моменты художнического озарения этому
актеру удавалось достигать таких высот, когда можно было говорить уже о том,
что он набрасывал если не портрет своего поколения, то довольно достоверный его
эскиз.
7
Разница между тем Енгибаровым, каким он приехал в Новосибирск пять лет назад, и
теперешним — огромнейшая. Он не только поднялся на несколько ступенек выше в
своем творчестве, но и вообще перешел, говоря словами знаменитого
клоуна-дрессировщика Л. Л. Дурова, в «верхний этаж лаборатории смеха». Нам
важно, что сам артист отдавал себе отчет в изменившемся подходе к работе.
«Прежде я стремился во что бы то ни стало не быть заурядным, не походить ни на
кого»,— иными словами, искал не свежую образную мысль, а оригинальную форму,
тяготел к усложненному цирковому языку. Теперь же, наоборот, «обратился к
простоте, к решениям ясным, определенным, гармоничным», к построениям
соразмеренным во всех своих частях. Прежде, по его словам, «растекался вширь»,
теперь старался проникать вглубь. Поначалу в голове возникали десятками образы,
сюжеты, ситуации, трюки, и все казалось необыкновенно интересным и важным.
Теперь же выработалась способность отбора, он оставлял лишь то, что можно
употребить в дело.
Молодой артист стал задумываться над общественной функцией циркового смеха.
Себя он причислял к племени жизнерадостных юмористов. Его привлекал, как он сам
выразился, не свист ювеналова бича, а шелест улыбчивых чеховских страниц. Юмор
во всех аспектах был предметом его интереса. «У меня юмористическое мировоззрение»,—
говорил он, и в этой связи подчеркивал, что ему очень близко определение, какое
немецкий писатель Жан Поль дал юмору, уподобив его птице, летящей в небесную
лазурь... хвостом вверх. «Это же великолепно!» — восторгался Леонид. Его
ироничный ум смаковал: летит в небо к богам, и такая непочтительность —
задом...
Енгибаров любил порассуждать о различиях между сатирой и юмором в цирке. Если
сатирик гневен, то юморист добродушен. Сатирик бичует смехом человеческие
пороки, а юморист считает, что наши слабости — это не что иное, как обратная
сторона наших достоинств. Сатирик враждебен к объекту смеха, юморист же
относится к тому, над чем подшучивает, снисходительно; он терпим к чужим
несовершенствам. Первый критикует прямо «в лоб», второй — намекает.
Не одинаков у них и «положительный герой» — смех, имеющий разное наполнение,
разные оттенки. «Больше всего ценю,— писал Енгибаров,— добрый смех — смех,
который не ранит. Смех моего Лени — не оскорбителен». И в другой статье: «Смеху
предпочитаю улыбку». С его точки зрения, улыбка дорога тем, что в ней
интеллектуальное начало. Смех часто бывает простой физиологической разрядкой
после напряжения. Другое дело — улыбка, она — продукт нашей оценки, она —
всегда отблеск мысли.
Казалось, еще недавно Леонид считал, что основная функция клоуна — развлекать,
давать зрителям здоровый отдых после трудового дня. Когда люди хорошо отдохнули
на цирковом спектакле, то утром пойдут на работу бодрыми и делом своим
заниматься будут гораздо эффективней. «Мы, клоуны, производим радость»,— не без
гордости сказал Енгибаров в одном интервью. Л в Другом назвал улыбку «глотком
озона, который вдыхает усталый горожанин».
Теперь он уже видел свое назначение не только в том, чтобы веселить. «Считать
коверного лишь развлекателем — значит, отказать ему в праве называться актером»
10. Енгибаров подчеркивал, что клоун «поднимает цирк до уровня искусства». Его
задача — «пробуждать зрительскую мысль».
Эти высказывания складываются в своего рода программу, в которой с предельной
ясностью доказывается, что клоун — серьезный человек и все делает
по-серьезному. «Безусловно, мои слова не означают, что он не хочет быть
смешным. Нет, смешить — его цель. Но подходит истинный комик к своей цели без
нарочитого смехачества». И еще одно из его последних высказываний: «Играть с
умом, но без рассудочности».
Итак, подытожим: клоун—актер, который под личиной чудаковатого персонажа несет
в зрительный зал серьезные мысли. Мысль — главное в искусстве смеха, при этом
она должна быть острой и непременно выраженной по-цирковому. Тех же взглядов
придерживается и Андрей Николаев, клоун одного с Енгибаровым поколения: «Артист
цирка в наши дни,— сказал он,— уже не может не быть интеллектуалом. И напрасно
думают некоторые, будто интеллект это нечто такое, чего не видно с манежа».
Слова у обоих этих мастеров смеха не расходились с делом. Сквозь их шутки,
эксцентриаду, веселые проделки, сквозь сложные трюки и прочие специфические
средства клоунской изобразительности всегда просвечивало глубокое размышление о
жизни, о проблемах, которыми сегодня живут люди, заполняющие цирк.
Писатель Юрий Благов, автор многих известных клоунад и книг о советских
клоунах, заметил: «Леонид Енгибаров очень современный, если так можно
выразиться,
«интеллигентный» клоун... Интеллигентным его делают
и отличный вкус и чувство меры»
Да, этот клоун умел заставлять публику задумываться. Способность чутко
улавливать то, что волнует современного зрителя, и даже быть проницательней
его, чувствовать острей и тоньше — и делала Енгибарова художником- сердцеведом.
С его появлением на арене клоунада в цирке, по утверждению Юрия Никулина,
«стала, говоря языком математиков и ничуть не преувеличивая, на порядок выше.
На манеж пришли глубокое раздумье, острая мысль» .
Леонид Енгибаров постоянно размышлял о характере комического, часто вступал в
споры на эти темы, много читал. И в результате выработал собственное клоунское
мышление, «без которого, как он сам говорил, сыграть смешное еще возможно, но
придумать смешное — никогда». Да, безусловно, клоунское мышление — основа основ
для тех, кто намеревается создавать репризы, интермедии, антре, в которых
реальная жизнь получает комическое преломление. Ибо «клоунада — это способ
глядеть на мир» — так предельно кратко, но емко определил Енгибаров существо
своей профессии. И далее с присущим ему своеобразием пояснял: «Цирковая публика
проникает в страну смеха через волшебную дверь, ключи от которой в руках
клоуна».
Клоун заметно отличается от тех, кто сидит на зрительских местах; не похож он
также и на артистов, выступавших до него. В облике и поведении клоуна зрителям
видится что-то странное, какая-то чудаковатость — это-то и делает его в глазах
публики забавным. Ей кажутся смешными поступки и образ мыслей коверного, потому
что не соответствуют, по ее понятиям, норме. А отклонение от нормы — одна из
самых распространенных теорий комического. И — добавлю — рычагов комического.
Клоун активен и неугомонен. Никогда ни перед чем не останавливается, всерьез ни
перед кем не преклоняется. Он — виртуоз предприимчивости. Предприимчивость —
костяк его характера. Само сценическое предназначение этого «принца мнимых
неудач»—нарушать запреты, проходить кордоны, выбираться из любых ям-ловушек.
Победы, которые он одерживает путем изобретательнейших фортелей и хитроумных
замыслов, веселят нас и подбадривают.
Клоун ведет разговор со зрителями на специфическом языке циркового комизма,
обладающем своими смеховыми приемами, имеющем свои выразительные средства. Из
множества слагаемых искусства клоунады выделим три наиважнейших признака:
преувеличение, мнимую глупость и ребячливость. О последнем мы довольно подробно
говорили выше, а сейчас рассмотрим два других — преувеличение и глупость.
Преувеличение — сама суть клоунады. Каждое эмоциональное состояние — чувство
страха, изумление, радость, отчаяние — клоун воспринимает с повышенной оценкой
и выражает гораздо острее по рисунку и сочнее по краскам, нежели его коллеги из
театра или кино. Если рыжему по сюжету антре предстоит испытать сильное горе,
он, рыдая, может рвать на себе волосы, рвать буквально, вплоть до полного
облысения.
Знаменитый Карандаш в книге «На арене советского цирка», рассуждая о характере
своего героя, подчеркивает роль повышенной оценки. Персонажу, который им
создан, «свойственно сочетание любознательности и любопытства, которые, будучи
преувеличенно выражены (курсив мой.— Р. С.), могут ставить его в комическое
положение». Красноречивым примером, поясняющим эту мысль, послужит описание
сценки из репертуара того же Карандаша. Пародируя выступление атлетов-силачей,
он оказывался придавленным тяжелым ящиком, который сплющивал его до того, что
превращал в лепешку. (Производилась подмена: на том месте, где должен был
лежать «пострадавший», оказывалась плоская фигура Карандаша в его рост, искусно
сделанная художником-бутафором.)
Действовать преувеличенно, или, как говорят сами клоуны, «с припуском» — это
значит действовать так, чтобы жесты, мимика, вся линия сценического поведения,
все средства комической выразительности были предельно сгущены, намного выше
нормы. Но при этом внутренние переживания остаются подлинными.
Подтверждение своим мыслям Енгибаров нашел у Бертольта Брехта. Оказалось, что
выдающийся пролетарский писатель, крупнейший деятель немецкого театра,
внимательно изучая тонкости искусства клоунады, изложил о нем свои глубокие
суждения. Писатель пришел к выводу, что главное средство мастера циркового
смеха — экстраординарное преувеличение; он утрирует, говорил Брехт, подавая
крупным планом либо человеческий характер, либо какое-то явление. По Брехту,
преувеличение — это фундамент эстетики искусства клоунады.
Чтобы проиллюстрировать наглядно это положение, привлечем авторитетное
свидетельство Федерико Феллини, автора и постановщика фильма «Клоуны».
Содержание сценария, который был недавно переведен и опубликован у нас, дает обильный
материал для сопоставлений и выводов, относящихся к различным аспектам
искусства клоунады. И, в частности, к проблеме преувеличения. В этом фильме все
эмоции клоунов поданы «с припуском»: когда они рыдают, то слезы льются
фонтанами; рыжего «покойника» выносят на середину арены и тяжело роняют на
землю. Потом начинают тянуть его за ноги и за руки, которые волшебным образом
все больше и больше удлиняются, затем «покойника» вновь укорачивают.... В
развернутой сцене «Похороны клоуна» рыжий по имени Фумагалли, громко плача,
вытирает глаза большим платком с черной траурной каймой, затем (цитирую):
«выжимает платок над тазом. Из платка льются потоки воды, таз наполняется до
краев...»
Рассмотрим теперь другой признак — мнимую глупость. Клоунское действие всегда в
той или иной мере оглуплено. Глупость, по утверждению Чернышевского,— «главный
источник комического. Как черта клоунского характера глупость имеет различные
оттенки — от наивного простодушия до полного кретинизма. Это свойство клоунада
унаследовала от народной смеховой традиции. Фольклор всех народов изобилует
сказками о глупцах и дурнях, которые поступают примерно так же, как эксцентрики
на цирковой арене: «вгоняют, например, лошадь в хомут вместо того, чтобы надеть
его на нее». (Сравним с эксцентриком, придвигающим рояль к стулу.)
В книге «Смеховой мир Древней Руси» рассказывается о весельчаках из народа,
которые, как издавна повелось, изображают себя неудачниками и дураками.
«Смеющийся «валяет дурака», паясничает, играет, переодеваясь (вывертывая одежду,
надевая шапку задом наперед) и изображая свои несчастья и бедствия. В этом
«валянии дурака» присутствует критика существующего мира в скрытой и открытой
форме. «Дурак» умен: он знает о мире больше, чем его современники». Под личиной
дурака испокон прятался мудрец.
Так было в древности, так сохранилось и до нашего времени. Известный режиссер
А. Д. Попов юношей попал на представление в балаган, и там на него сильнейшее
впечатление произвело, «как сметливый балагур надевал личину простофили и
дурачил — умного практика». Одурачивать всех, прикидываясь глупцом,— таков
основной художественный принцип клоуна в старом русском цирке. Маска дурака
словно бы давала ему лицензию на то, чтобы «резать правду-матку» в глаза,
разоблачать социальную несправедливость.
Роль дурака не из легких. Чтобы заставить людей смеяться над собственной
глупостью, требуется искренность, высокое мастерство, способность вживаться в
образ. И еще — знание природы человеческой глупости.
Однажды В. И. Ленин в беседе с А. М. Горьким высказал такую мысль: «Писатель
для того, чтобы создать художественный образ «дурака», должен «дураком
вообразить себя» в знать «дела дурацкие... назубок».
Юрий Никулин в своих мемуарах изящно пошутил, сказав, что клоун — это
дурак-профессионал. Впрочем, и сам он не отступал от этой традиции, а в серии
кинофильмов представал в образе Балбеса. Эпитет «глупый» и по сию пору
неотделим от маски европейского клоуна. Корабль цирковых дураков под флагами
всех наций плавает по морям, швартуясь к манежам Лондона, Гданьска,
Лос-Анджелеса, Гаваны, Монте-Карло. Впрочем, ни один клоун не бывает только
глупцом или только ловким пройдохой. В его характере, как и в характере многих
персонажей мирового фольклора, уживаются различные черты, порой даже
противоречивые.
Движение искусства клоунады безостановочно и непрерывно. Клоун не имеет
возраста. Ему, как справедливо утверждал Анатолий Дуров, «столько же лет,
сколько и человечеству». В этой связи позволю себе не согласиться с уважаемым
исследователем истории цирка, утверждавшим, что «клоун не был привнесен в цирк,
как полагают, но пробился и вырос из самой сердцевины манежа».
Обратимся к прошлому циркового искусства. Более двухсот лет назад Филип Астлей,
бывший сержант- кавалерист, отважился открыть на свой страх и риск зрелищное
заведение и арендовал с этой целью участок на лондонском пустыре. Астлеевский
Амфитеатр принято считать первым в мире современным цирком. Его владелец,
безусловно, был человеком смелым, хорошо знающим жизнь, знающим вкусы людей и
их психологию. Он точно определил, что конное зрелище без веселых шуток не
будет способно долго привлекать публику.
Астлей не изобрел профессию клоуна, она существовала и задолго до него, но он
первым сообразил привлечь смехотворов в свое заведение. Он и раз, и другой, и
третий прошелся по ярмарочным балаганам и выбрал для себя комиков подаровитей
да посмешней, и те сменили дощатые подмостки на круг арены, покрытый опилками.
Именовались клоуны либо Джек-Пудинг, либо Мистер Весельчак. Их одежда, как
сказано в «Истории английского цирка», напоминала костюм Арлекина. До нас дошло
подлинное имя первого клоуна, который выступал у Астлея в год открытия
Амфитеатра — Бет.
Если бы каким-то образом удалось восстановить родословную этого самого Бета или
кого-то из Мистеров Весельчаков, то вполне могло случиться, что их далекие
предки оказались бы в числе тех ряженых, что лицедействовали в обрядо-игровом
празднестве в честь Диониса, «в котором потенциально... были заложены все
основные виды комического, обособившиеся в ходе развития культуры».
Факт прихода в цирк клоунов извне, «со стороны», утверждается и в книге С. М.
Макарова «Советская клоунада»; в ней доказательно, на большом историческом
материале прослеживаются истоки смехового жанра, начиная от глубокой древности
и до наших дней.
Чтобы успешно придумывать смешное, цирковой весельчак должен постоянно
развивать свое клоунское мышление. В чем его суть?
Как и всякий интеллектуальный процесс, клоунское мышление — это способность
опосредованно отражать действительность, раскрывать ее закономерности.
Особенность клоунского мышления заключается в том, что результат его рождается
в смеховых формах. (Это относится и к целому и к деталям.) Причем явления
действительности причудливо преломляются сквозь призму личности клоуна.
Енгибаров говорил, что его мысль всегда течет в русле поиска смешных ситуаций,
остроумных сопоставлений, комических трюков, парадоксальных сшибок, оживленных
метафор. «Я мыслю смеховой единицей»,— его слова.
Впрочем, такого рода мышлением должны обладать не только цирковые мастера
смеха, но и литераторы, которые намереваются писать для них. Удачную клоунскую
сценку создать непросто. Нужен чуть ли не инженерный расчет. Не случайно братья
Гонкуры считали цирковых клоунов единственными актерами, «чей талант неоспорим,
абсолютен, как математика». И еще клоуну надлежит отлично знать своих зрителей,
иначе он не сумеет «вызвать единодушие эмоций», как сказано в старинной книге
воспоминаний английского клоуна Воллетта.
Подмечать смешное в жизни способны многие, но лишь наделенные клоунским
мышлением знают, как именно подать его, в какой зрелищной форме, чтобы оно
вызвало коллективный смех.
Клоунское мышление — это когда хорошо знакомые нам предметы и явления ставятся
с ног на голову. С какой целью? С целью художественного заострения. Клоунское
мышление, освещенное вспышкой творческой фантазии, способно повседневное
превратить в фантастическое, естественное в нелепицу, общепринятое в
невероятное. Клоунское мышление перемещает местами причину и следствие. «У
клоуна,— говаривал в шутку Леонид Енгибаров,— мозги вертятся против часовой
стрелки». Сам он настойчиво развивал в себе способность улавливать в окружающей
действительности смешное, тренировал глаз, чтобы тот, по его выражению, «был с
крючком», которым можно выуживать из житейского моря достойное осмеяния или
вышучивания.
Клоунское мышление замещает логику здравого смысла логикой ассоциативных
связей. Вот типичный образчик подобного мышления. Коверный спрашивает у
дрессировщика:—
Можно погладить вашу собачку? — Пожалуйста, погладьте. Получив разрешение,
рыжий деловито расставляет на манеже гладильную доску и вытаскивает из широких
штанин электроутюг...
По житейской логике скрипка и лук для стрельбы — вещи далекие друг от друга. Но
клоун Енгибаров натягивает струну скрипки, словно тетиву, и посылает смычок,
как стрелу, в своего обидчика-униформиста, грубо отобравшего у него метлу.
Вопреки здравому смыслу Леня также умудряется использовать шнурки от ботинка в
качестве прыгалки.
Конечно, зрителю вдумываться в смешные фортеля просто ни к чему — они вне
логического анализа. Их мотивировка подчинена другим законам: рассчитана на
живую сиюминутную реакцию. Другое дело, что необходимо принять условия именно
этой игры, требуется соучастие, увлеченность происходящим и полная вера в
досужий вымысел, как в правду.
Итальянский клоун Фортунатто, выступающий в амплуа рыжего, обладатель
сентиментального характера и пышных черных усов, поделился на манеже с
партнером — белым клоуном — своей заветной мечтой: обзавестись семьей, заиметь
двух детишек — мальчика и девочку. Или нет, лучше четырех: трех мальчиков и
девочку. А еще лучше, продолжал он грезить, шестерых... И в этот момент на
манеж выбегает шестерка ребят, мал мала меньше, и с радостным криком:
«Папочка!» бросается рыжему на шею. И цирк заходится смехом. Такую живую
реакцию вызывает, конечно же, не романтическая идиллия, а внешний облик детей:
все они — усаты. И это вполне в характере клоунского мышления: усатому отцу его
потомство видится в мечтах тоже усатым.
Мыслить по-клоунски, говорил Енгибаров,— это видеть своего героя внутренним
зрением как фигуру комическую, действующую на манеже по законам смешного и
совершающую забавные поступки. Только наделенному клоунским мышлением придет на
ум оснастить циркового ослика, подобно автомашине, номерным знаком,
стоп-сигналом — красными огоньками под хвостом и «запаской» в виде ослиной
ноги, укрепленной, как и положено, сбоку.
...Артист польского цирка Эдди, выступающий в амплуа комика-балансера,
удерживает в равновесии на подбородке сложную многоярусную пирамиду из
стеклянных фужеров и переносит ее через высокую лестницу. Зрителям видно, что
трюк очень сложный, требующий мастерства и огромного напряжения физических сил.
И вот, когда артист спустился вниз и освободился от своей хрупкой ноши, он со
вздохом облегчения вытер лоб платком, но не у себя, как того требовал здравый
смысл, а у своей партнерши, которая всего-навсего подавала ему фужеры. Эта
неожиданность —в природе клоунского мышления и потому неизменно вызывает
дружный смех.
Мыслить по-клоунски — значит, отказаться от здравого смысла или, если
воспользоваться выражением Лермонтова, опрокинуть «в уме своем все школьные
правила логики» и настроиться на совершенно иную систему мышления, назовем ее —
парадоксальной. При такой системе дважды два не четыре, а — пять, или три, или
семь. Цирковое искусство парадоксально по своей природе. Уже сам трюк —
основное средство выразительности — парадоксален, как парадоксальна народная
пословица «Тише едешь — дальше будешь». Совершать парадоксальные поступки и высказывать
парадоксальные мысли — основа творчества клоуна. Там, где нужно плакать, рыжий
может захохотать, где вскрикнуть от боли, он восторгается... Ближайшее
подтверждение этому находим в том же фильме Феллини «Клоуны». Комики Рокфор и
Комар сколачивают гроб. «Рокфор держит гвоздь, по которому Комар бьет изо всей
силы молотком. Один из ударов он наносит мимо.
Рокфор (торжествующе). Ага, промазал!
Рокфор смеется, показывая свой большой палец, который на глазах чудовищно
пухнет. Комар наносит еще один удар молотком.
Рокфор (в восторге). Ага, опять мимо!
Хохочет во все горло — теперь у него страшно распух также и указательный
палец...».
Клоунское мышление, как и чувство юмора,— свойство врожденное. Однако и то и
другое может развиваться и совершенствоваться. И старый цирк и современный
знали мастеров смеха, обладавших высокоразвитым клоунским мышлением: Аким
Никитин, Сергей и Дмитрий Альперовы, Виталий Лазаренко, Леон Танти, Карандаш,
Юрий Никулин. Но даже и среди этих корифеев выделялся Алексей Сергеев (Серго).
В жизни этот человек не проявлял какого-то особого остроумия. Никогда я не
слышал, чтобы он шутил или каламбурил за кулисами, а между тем был необычайно
плодовит на комические фортели в манеже. Иные из них были просто блистательны.
Казалось, ему ничего не стоит с ходу придумать репризу, выстроенную по всем
законам циркового комизма. Он был способен придать простой вещи смешной, как он
сам говорил, поворот. Все, что исполнял Серго, было придумано им самим. Любая
его реприза может служить иллюстрацией клоунского мышления.
...Серго появлялся на манеже с будильником в руках и энергично тряс его, а
затем прикладывал часы к уху: пошли или нет... Потом решительно открывал крышку
и принимался что-то подкручивать огромным гаечным ключом.
«Инспектор манежа. Что это вы там делаете?
Серго. Да вот будильник остановился...
Инспектор манежа. Выкиньте его на свалку. Он теперь уже ни за что не будет
ходить.
Серго. Ну что вы... Обязательно пойдет.
Инспектор. А я говорю, не пойдет. Держу пари.
Серго. Пари? На что?
Инспектор. На ужин,
Серго. Согласен. Заказывает тот, кто выиграет. Значит, вы говорите, часы «не
пойдут», а я повторяю — пойдут!
Маэстро — марш!»
Серго ставит на стол свой будильник, и тот, представьте себе, начинал двигаться
— шагал... «Пошли! Пошли!» — пускался в радостный пляс победитель. (В часы был
вмонтирован заводной слоник.)
Как видим, Сергеев использовал привычную метафору «часы ходят». Клоуны сплошь
да рядом прибегают к метафорам, которые усердно служат им действенным средством
комического переосмысления. Енгибаров коллекционировал веселые картинки под
рубрикой «Без слов». Они тоже построены на овеществлении метафор. Вот одна из
типичных: художник изобразил влюбленных. Они так жарко целуются, что на снежной
поляне вокруг не только растаял снег, но даже поднялась трава и распустились
цветы...
В руках циркового комика знакомый предмет или знакомое явление приобретают
новый смысл. Среди многих исполненных на арене клоунад и реприз, построенных на
овеществлении тех или иных метафор, была сатирическая сценка «Мыльный пузырь»
(автор Н. Лабковский), разыгранная популярным в 50-е годы клоуном Константином
Берманом и направленная своим сатирическим острием против непомерного
честолюбия. Автор отталкивался от метафоры «лопнул, как мыльный пузырь». Берману
сообщили «по секрету»: принято решение назначить его директором клоунской
группы. И вот этот чудак-человек, наивный и глуповатый, преисполнился на наших
глазах собственного достоинства и начал буквально надуваться, точно Спесь из
басни Крылова. Минутой позднее поступает новое известие: произошла ошибка,
Берман назначен директором цирка. Зрители с улыбкой наблюдали, как спесивец
раздулся еще больше. Но тут выяснилось, что кто-то напутал: Берман назначен
директором не цирка, а всех зрелищных предприятий! Вот это карьера! Честолюбец
превратился в шар. И вдруг наступала развязка — оказалось, что все это не более
как розыгрыш. И в тот же миг раздутый авторитет лопнул с веселым треском.
Однако овеществление метафор как прием циркового комизма — дело капризное.
Леонид Енгибаров испытал это на себе. В начале творческого пути, когда, по его
собственному выражению, он еще только «продирался сквозь таинственные чащобы
клоунады», пришла ему в голову остроумная, как тогда новичку казалось, шутка на
основе тропа «коленная чашечка». Суть этой репризы заключалась в следующем.
Коверному стало жарко, и он решил выпить воды, но стакана под рукой не
оказалось. И тогда ничтоже сумняшеся он расстегнул молнию на брюках у колена и
достал оттуда фарфоровую чашечку (по аналогии с «коленной чашечкой»}. Придумано
вроде бы неплохо. Но «хоть бы одна улыбка!» —вспоминал актер. Подвела
начинающего коверного и материализация другой словесной метафоры «мокрый, хоть
выжимай». В сатирической клоунаде «Стирка», решенной в приемах буффонады, несвойственной
творческому профилю Енгибарова, он изображал нерадивого мастера из прачечной.
По ходу сцепки он якобы нечаянно обливал клиента водой, а потом энергично
пытался отжать его. Клоун потерпел фиаско, явившееся для него горьким, но
вместе с тем полезным уроком.
«Главным своим приобретением за немногим более чем десятилетний срок работы на
манеже считаю выработку клоунского мышления». Этими словами, сказанными в 1971
году, Енгибаров как бы подытожил результат своих творческих усилий. Способности
мыслить по-клоунски он придавал первостепенное значение.
Итак, если обобщить все сказанное, то сам собой напрашивается вывод: клоунское
мышление — краеугольный камень творчества циркового комика, И без него он
словно солдат в бою без оружия.
Зрелость
Кто меньше испытал,
тот меньше знает.
Армянская народная пословица
Для середины 60-х годов характерно такое явление, как взаимопроникновение
искусств. Не осталась в стороне и цирковая арена, которая стала испытывать
влияние современного театра и кинематографа, эстрады и спорта, телевидения и
балета.
Советский цирк середины 60-х годов обрел ряд отличительных особенностей. По
стилистике стал более лаконичным, в создании номеров еще более возросла роль
режиссера, балетмейстера, художника, композитора; в построении номеров
возобладали энергичные ритмы. Произошел подъем профессиональных достижений.
Заметно обновилась вся образная система, стала более современной. Словом, даже
невооруженным глазом был виден динамизм творческого роста нашей арены, которая
теперь оказывала определенное влияние на европейское цирковое искусство.
Решительнее других жанров утверждались в это время воздушная гимнастика, а
также клоунада. Процесс ее развития происходил под прямым воздействием наиболее
одаренных мастеров смеха и среди них не в последнюю очередь — Леонида
Енгибарова. Его творчество влилось в общее русло искусства клоунады, формируясь
в живой связи с художественными исканиями как старшего поколения, так и
сверстников.
Ведущие артисты клоунского цеха стремились выходить за рамки традиционных форм
построения антре и реприз. При творческом содействии литераторов, постоянно
сотрудничавших с цирком — В. Ардова, Ю. Благова, П. Глазовского, В. Полякова,
Б. Романова, М. Татарского, М. Триваса, Э. Шапировского и других,— клоуны осваивали
новые темы, новые смеховые приемы, новые выразительные средства, радуя зрителей
яркими работами. Олег Попов показал вторую редакцию развернутого клоунско-
сатирического ревю «Лечение смехом», он же блеснул как драматический актер в
двух детских спектаклях: «Царевна- Несмеяна» и «Сказка о попе и работнике его
Балде» (по собственному сценарию). Юрий Никулин и Михаил Шуйдин только что
вынесли на манеж Московского цирка остросатирическую по содержанию сценку «Шипы
и розы» (автор М. Татарский). Смело экспериментировал в своем искусстве Андрей
Николаев, Г. Ротман и Г. Маковский успешно вели творческие поиски новой
комедийной формы и, в частности, ставили опыты с фонограммами; они первыми в
советском цирке принялись изобретательно «озвучивать» свои интермедии шумами,
записанными на магнитофонную пленку; они же в эти самые годы начали создавать
сценки и репризы на международные темы. Андрей Николаев за высокое
исполнительское мастерство и оригинальный репертуар, отличающийся новизной и
хорошим вкусом, удостоился звания лауреата на Международном фестивале юмора в
Софии (1965).
Шестидесятые годы явились такими значительными для искусства клоунады еще и
потому, что манеж пополнился большим отрядом молодых исполнителей — выпускников
циркового училища и Студии при Московском цирке. В этот же период возрождалась
заглохшая было форма клоунских ансамблей, среди них лидировали «Ребята с
Арбата». Плодотворно работали и комики во вновь созданных национальных
коллективах: башкирском, таджикском, молдавском, а также в «Цирке на льду» и
«Цирке на воде».
Итак, главные тенденции поступательного движения в искусстве клоунады 60-х
годов можно охарактеризовать как энергичный поиск новых смеховых форм. Это
первое, а второе — преобладание пантомимического комизма над словесным. Под
прямым воздействием невиданного успеха Енгибарова безмолвная интермедия в этот
период начала вытеснять интермедию речевую.
Не обошлось, однако, и без творческих издержек: с манежа стала исчезать
злободневность, которая во все времена была неотъемлемым элементом цирковых
программ. Исчезли сатирики-куплетисты. На арене воцарилось видовое однообразие.
Все это не замедлило сказаться на дальнейшем развитии этого жанра.
Середина 60-х годов — время творческой и духовной зрелости Леонида Енгибарова,
самый взлет его могучего дарования. В первых числах января 1965 года он
вернулся из Чехословакии с Международного конкурса циркового юмора, вернулся
победителем, обладателем первой премии, доставшейся ему в труднейшей борьбе.
Пять дней, до предела насыщенных волнением, состязались цирковые комики разных
стран в оригинальности художественных решений, остроумии сценок, в
изобретательности смешных трюков и своеобразии комических масок. Конкурс вызвал
живой интерес не только пражан, но и многих прибывших из-за рубежа зрителей,
продюсеров, режиссеров, представителей телевидения и печати.
На долю «клоуна из Еревана», как окрестила Енгибарова пражская пресса, выпал
небывалый успех. В адрес победителя хлынул поток поздравительных телеграмм,
импресарио наперебой приглашали его на гастроли по всему миру, предлагали тут
же подписать контракт на любой срок, на самых выгодных, как они говорили,
условиях.
Возвратясь из Праги, он ходил по зимней Москве, настроенный необычайно
приподнято — счастлив, весел, доволен собой. Нет, не ходил — летал, окрыленный
столь очевидным признанием.
Гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя.
До пражского триумфа в творческой судьбе артиста произошло еще несколько
примечательных событий, которые самым ощутимым образом повлияли на его душевный
подъем. 22 апреля 1961 года на манеже старого московского цирка состоялся дебют
Армянского коллектива. Обновленную программу гостей, полную самобытного
национального колорита, отличали высокое исполнительское мастерство,
слаженность, задорный ритм, а главное, обилие отличных номеров, один лучше
другого.
Украшением этого замечательного спектакля, безусловно, было выступление Нази
Ширай, жонглера мирового класса. Симпатии зрителей вызвал эквилибрист В.
Арзуманов, показавший рекордный трюк — спуск на голове по наклонному канату. Р.
Касеев и Р. Манасарян сумели вдохнуть в традиционный жанр акробатики живую душу
— подлинный артистизм. Образное начало присутствовало также и в аттракционе
«Экзотические животные» дрессировщика С. Исаакяна, и в прекрасной пластико-акробатической
композиции «Бронзовые люди» (группа под руководством А. Магдасяна), и в
забавной сценке «Веселые повара (исполнители — В. Семенов и 3. Хасхазян).
Зрителей восхищал романтический номер гимнастки Елены Аванесовой, отважно
работавшей на трапеции, которую «нес» в когтях орел, широко раскинувший крылья
— это было свежо и впечатляюще. Как всегда, с блеском продемонстрировали
новаторский номер «Вольтиж на шестах» братья Асатурян и Ирина Шестуа.
Вот в таком окружении и предстал Леонид Енгибаров перед зрителями столичного
цирка. Новизной исполнительской манеры, самобытным юмором, удивительной
музыкальностью молодой коверный произвел настоящий фурор. «Помню этот вечер до
мельчайших подробностей,— писал он в автобиографии. — Помню ревущий зал после
клоунады «Бокс» и, что совсем невероятно, вызовы после моего ухода, вызовы, как
будто это театр, а не цирк. Смеющиеся лица зрителей, рядами уходящие вверх от
барьера манежа, и только одно лицо, залитое слезами, лицо справа в четвертом
ряду, лицо моей матери...».
Вел программу Армянского коллектива Завей Мартиросян, актер с врожденным
чувством такта и ритма. Элегантный, корректный, чуткий, исполненный внутреннего
достоинства, он был идеальным партнером молодому коверному, признававшемуся
впоследствии, что «лучше Завена помощника не имел...».
Осенью того же года Енгибаров переехал с коллективом в Ленинградский цирк,
который снискал в 6O-e годы славу творческого лидера. Его манеж стал поистине
исследовательским центром поисков и создания нового в цирковом искусстве. Его
художественной жизнью руководил Георгий Семенович Венецианов — талантливый
режиссер, драматург, образованнейший человек, вдумчивый воспитатель, прекрасный
организатор, личность незаурядная. Он был душой цирка на Фонтанке.
О людях арены известно, что они неохотно покидают обособленную профессиональную
среду. Енгибаров один из немногих, кто не замыкался в рамках своего мирка. В
каждом городе входил в контакт с большим кругом людей. Необыкновенно
общительный, он всегда был открыт для новых знакомств и новых впечатлений.
Жадно впитывал в себя свежую информацию, был чуток к новым веяниям в искусстве
и литературе. Эти встречи, как он говорил, обогащали его творческую кровь
кислородом вдохновения, знаний и фантазии.
Мариэтта Шагинян, книгами которой зачитывался Енгибаров, написала о юном
Моцарте, что выступать и странствовать тот начал с детских лет, «учась на ходу
главным образом от встречных людей». «Встречным людям»— художникам, писателям,
актерам театра, журналистам, режиссерам телевидения и кино, физикам, офицерам
во многом обязан Енгибаров и своим интеллектуальным развитием.
Время пребывания в этом городе музеев, прекрасных театров и картинных галерей
любознательный актер использовал для расширения своего кругозора. Не упустил
Леонид случая и детально познакомиться с несметными богатствами Ленинградского
Музея цирка, где, как рассказывали, он дневал и ночевал: переворошил все полки,
обследовал все шкафы, просмотрел горы фотографий, сделал множество выписок,
дотошно исследовал картотеку. Дотошность, кстати, и увлеченность —
примечательные черты его характера. Дотошно и с увлечением изучал нужное,
дотошно и увлеченно готовил свои номера, дотошно и увлеченно тренировался.
Здесь же, в Ленинграде, параллельно шло и профессиональное его
совершенствование. Мне не встречался артист, которого в такой же мерс, как
Енгибарова, интересовало бы прошлое клоунады и ее современное состояние. Об
этом предмете он рассуждал как настоящий знаток.
Общение с Венециановым оказалось особенно полезным для молодого актера. Людям,
знавшим Георгия Семеновича близко, было известно: если ему нравился человек, он
оказывал ему особое внимание. Вот так он выделил и приблизил к себе и
Енгибарова, всячески опекая его п одаривая своим расположением; устраивал ему
встречи с интересными людьми, сам не жалел времени для бесед с начитанным, как
выяснилось, молодым коверным. Если в Одессе Донато, Якобино и Танти стали для
начинающего артиста учителями клоунского мастерства, то здесь, в Ленинграде,
Венецианов сделался духовным наставником Енгибарова — тонко, деликатно вводил в
круг профессиональных секретов.
Главной темой их разговоров, и самой интересной для обоих, как вспоминал потом
Енгибаров, была клоунада. И это в общем-то понятно, ведь незадолго до того
Венецианов опубликовал в журнале «Советский цирк» проблемную статью, которая
взбудоражила весь цирковой мир, вызвала множество толков. Статья называлась
«Победа коверного». Примечательно, что не теоретики, а он, практик, дал анализ
тогдашнего состояния клоунады, глубоко исследовал явление, которое по своей
значимости выдвинулось на первый план. Суть этого явления сводилась к
следующему. Царившая на манеже многие десятилетия буффонад пая клоунада была
«свергнута с престола» в конце 50-х годов коверным. Коверный, по мнению
Венецианова, из служебного придатка к программе сделался незаметно ее становым
хребтом. Более того, в иных случаях клоуны у ковра начали занимать положение
аттракциона. Появились коверные- гастролеры, они обзавелись
помощниками-ассистентами, под бутафорию и дрессированных животных новых
премьеров стали отводиться специальные багажные вагоны. «Теперь уже не коверный
клоун,— писал автор,— пристраивает свои репризы к паузам после номеров заранее
составленной программы, а сама эта программа сплошь и рядом составляется при
непосредственном участии коверного клоуна из номеров, удобных для него с точки
зрения последующего обыгрывания их наиболее ударными репризами»
Енгибаров пришел на профессиональную арену, когда этот процесс в основном уже
завершился. И господство коверного на манеже воспринималось как нечто само
собой разумеющееся. Венециановский анализ произвел на молодого коверного
глубочайшее впечатление. Ни одна статья о цирке не задевала его за живое так
сильно, как эта. Сохранились карандашные подчеркивания и короткие реплики вроде
«Верно!», сделанные на полях журнальных страниц,— свидетельство того, что
статья серьезно проштудирована им. Лишь в одном месте был выведен жирный
вопрос, очевидно, знак несогласия — там, где автор отрицает правомерность
употребления термина «классическое антре», заменяя его насмешливым «архаическое
антре».
Статья побудила Енгибарова переосмыслить привычное: ему захотелось докопаться
до самых корней, понять, как же могло случиться, что коверный забрал у
буффонадного клоуна пальму первенства? Когда это произошло? Что способствовало
этому? Ведь еще недавно коверный по своему удельному весу занимал в цирковой
программе всего лишь третьестепенное положение. Каким же образом смог он
превратиться в премьера?
Чтобы лучше понять суть этого важнейшего в жизни цирка процесса, давайте
попристальней вглядимся в сами фигуры коверного и клоуна-буфф.
Прежде коверный был парией циркового манежа, «затычкой» в программе.
Творчеством в его работе и не пахло. В социальном отношении он стоял на одной
из самых нижних ступеней. Жалованье получал меньше всех артистов. Образ клоуна
у ковра отображен нашей литературой в рассказах Григоровича, Чехова, Горького,
Куприна. Располагаем мы и более ранним свидетельством, причем весьма
интересным. В 1849 году в «Отечественных записках» была напечатана повесть
писателя-демократа В. Р. Зотова «Вольтижерка». О коверном в ней написано, что
он «был предметом... насмешек всей труппы». Все толкали его, «щипали, стегали
хлыстами, заставляя кричать, петь петухом и корчить рожи». Вот он заполняет паузу,
чтобы дать отдых наезднице. Соскочив с коня, она «нечаянно» оказывается на шее
у коверного и тот несется «с нею вокруг арены, прискакивая, ржа и выгибаясь,
как настоящая лошадь». А наездница довольно чувствительно погоняет «его ногами
и коротеньким хлыстиком, которым она стегает его по икрам, визжа оглушительно».
Документально точное описание работы коверного в начале нашего столетия находим
также и у А. Л. Дурова: «Публика видит его суетливо бегающим, болтающим всякий
вздор, зарывающимся носом в песок, раздающим и получающим пощечины и пинки, и
на нее все это производит впечатление смешной сутолоки и безалаберщииы, и она
хохочет при каждом его выступлении»".
Примерно такой роль коверного оставалась вплоть до конца 20-х годов.
А что являл собой «свергнутый с трона» клоун-буфф? С этим нелепым чудаком в
нашем представлении связаны утрированный грим и столь же утрированный костюм.
Буффонадный клоун — фигура обобщенная, без социальной и бытовой конкретности;
такого не встретишь на улице. Буффон действует в маске, напоминающей те личины,
за которыми укрываются участники маскарадов. Так ему легче выполнять одну из
своих функций — ниспровергать авторитеты, сотрясать устоявшийся порядок вещей.
В нем всегда живет дух стихийного бунтарства. Даже в самих резко контрастных
фигурах рыжего и белого заключен конфликт: первый — антипод своего
респектабельного в парче и бархате партнера, олицетворяющего добропорядочного и
самодовольного филистера.
Естественно, что в подобной маске буффонадные клоуны не могли раскрывать на
манеже темы современности. А этого и требовал новый зритель, именно на этом
решительно настаивала общественность и цирковая критика.
Борьба за острое злободневное слово, созвучное времени, началась с первых же
дней революции, когда цирк из низкого зрелища — зрелища для простолюдинов —
стал превращаться в учреждение культурно-просветительного характера, которое
встало в один ряд с театром и концертными залами. В дальнейшем цирк рос вместе
со своим зрителем, вместе с развитием его культуры.
Старая буффонада, чаще всего построенная на унижении человеческого достоинства,
чему служили бесконечные оплеухи, пинки, изощренные подвохи и прочие
издевательства, уже не могла удовлетворить возрастающего вкуса аудитории.
Потребовалась новая драматургия, новое содержание, новые темы, новые смеховые
приемы. Цирк стал энергично привлекать сатириков и юмористов. Каков же
результат? Насколько плодотворным оказался новый курс? Перед нами ценное
свидетельство современника-очевидца. Он писал: «Пусть многое и многие еще слабы...
Но новое слово, но новая мысль находит своих глашатаев. Медленно, ко верно на
цирковую арену пробивается талантливый сатирик, умный клоун». Сказано ото
давно, еще в 1928 году. В дальнейшем эта направленность в клоунаде все более
углублялась.
Ищущие и вдумчивые мастера смеха включились в активный поиск свежих форм
клоунады. Среди них в первую очередь следует назвать три имени: Виталия
Лазарснко, шута его величества народа, который сменил маску «модерн- рыжего» на
образ клоуна-публициста; Дмитрия Альперова, ставшего сатириком, обличителем
недостатков быта; братьев Танти, они называли себя не клоунами, а «глашатаями
программы», подчеркивая тем самым пропагандистский характер своих выступлений.
Следует отметить и то, что клоуны старой формации все чаще оказывались
неспособными перестроиться на новый лад и сходили, говоря языком спорта, с
дистанции. А их место занимали молодые артисты из акробатов, наездников,
балансеров, гимнастов, которые отваживались идти непроторенным путем. Клоунами
у ковра успешно начали работать Н. Антонов и В. Бартенев, В. Ведерников и И.
Карпи (Биль-Вилль), Л. Разуваев (Леон), Г. Стуколкин, Хасан Мусин, Алексей
Сергеев (Серго), Кенсарин Лерри, Константин Берман, братья Ширман. Все они до
того работали акробатами или гимнастами. Другим каналом пополнения рядов
коверных было цирковое училище. Многие выпускники отделения клоунады хорошо
зарекомендовали себя в этом амплуа. И успешно несли с арены новое
содержательное слово.
Этот процесс не имел прецедентов ни в какой другой стране, «Еще никто, кроме
русских, кажется, не заметил, каким могущественным фактором пропаганды может
стать цирк» . Эти слова принадлежат известному немецкому литератору, доктору
А.-Х. Коберу. Принципиально новое направление в нашей клоунаде зафиксировал и
Доменик Жандо. В своей книге «История мирового цирка» он писал, что русские
клоуны «разорвали цепи ее святейшества традиции»; их заслуга виделась ему в
том, что они сумели «обновить материал, протертый до дыр». Известный английский
акробат Джим Брент точно подметил, что в советской клоунаде «главное место
принадлежит мысли» 26. Карел Клудский (его называют «королем чешского цирка»)
справедливо отмечает в мемуарах, что клоунада советской арены основана «главным
образом на сатире, зачастую острополитической»
Словом, возросшие запросы публики и как ответ на это требование —
содержательный репертуар — вот могучий рычаг решительного преобразования нашей
клоунады. Один за другим артисты, выступавшие в буффонадной клоунаде, начали
сдавать позиции. Сперва перестроились белые, они отказались от мелового тона на
лице, от блесток и парчи, оставив до поры лишь крахмальное жабо. Более неохотно
расставались с утрированным гримом, с огромными ботинками, париками и прочими
аксессуарами своей вчерашней роли рыжие. Так постепенно начался процесс
ассимиляции клоунов-буфф с коверными.
Всякое преобразование в жизни совершается людьми, наделенными талантом, в том
числе и организаторским, совершается при обязательном условии — благоприятном
стечении обстоятельств. Кто же из коверных конкретно подготавливал победу?
Енгибарову рассказывали, что в Ленинградском цирке в начале 30-х годов выступал
с огромным успехом Алексеев, от природы наделенный подлинным чувством правды.
Он выходил на манеж под своим собственным именем — Павел Алексеевич—и делал
репризы на злобу дня. Это была бытовая, немного утрированная фигура комичного
бухгалтера, одетого в мешковатый костюм фабрики «Лекодежда», на голове серая
панамка, под мышкой набитый бумагами портфель. Полнотел и круглолиц, бухгалтер
забавно суетился и невпопад вмешивался в цирковое представление. Алексеев
обладал естественным комизмом, был необыкновенно смешным, ленинградцы обожали
его.
Павла Алексеевича и следует считать первым, именно с пего начался поиск новой
маски. Ну а следом, конечно. Михаил Румянцев. Созданный им образ Карандаша и
тот триумфальный успех, какой он имел, способствовали утверждению коверного в
качестве именитого гастролера. Далее громко заявили о себе Борис Вяткин и
Константин Берман, комики, которые, казалось, владели всеми жанрами. Потом на
цирковой небосвод взошла «звезда» первой величины — Олег Попов. А за ним в
большое самостоятельное плавание вышел премьер Узбекского коллектива Акрам
Юсупов, вокруг которого была создана целая клоунская группа. И наконец, громкое
афишное имя завоевали Юрий Никулин и Михаил Шуйдин.
В своей статье Г. Венецианов назвал новую маску коверных современной. Такое
определение казалось Енгибарову расплывчатым. Правильней сказать: маска,
приближающаяся к реалистически-бытовой. По его словам, в ней начисто отсутствуют
те черты абстрактности, иносказания и символа, какие нес в себе традиционный
рыжий.
Отныне маска клоуна обретала прочную связь со своим временем. Коверные 60-х
годов своим внешним обликом, да и линией поведения близко стояли к чудаковатым
персонажам наших музыкальных кинокомедий, оперетт и водевилей.
Герой Енгибарова занял место в том же ряду.
И еще одно соображение. Традиционного рыжего зрители никогда не отождествляли с
собой. В их глазах это был некий экзотический персонаж, странный, смешной,
нелепый — словом, фигура, далекая от жизни. Коверного же воспринимают как
веселого, обаятельного чудака. И сплошь да рядом между ним и собой ставят знак
равенства.
Итак, возвращаясь в Ленинградский цирк, замечу, что Енгибаров охарактеризовал
месяцы, проведенные на его манеже, как «самые насыщенные и плодотворные». Под
конец гастролей он удостоился почетной премии «Лучший артист года», учрежденной
Клубом друзей цирка. А вскоре испытал еще одну творческую радость: начались
съемки художественного фильма «Путь на арену» с его участием в главной роли.
2
К кино Леонид пристрастился лет с шести-семи. И эта любовь не тускнела с
годами. Еще в юности, когда об актерском поприще даже и не помышлял, он ловил
себя на том, что, возвращаясь домой из кинотеатра, досочиняет или переиначивает
какие-то эпизоды только что просмотренной картины. (Обычно это случалось после
кинокомедий.) Режиссерские задатки, заложенные в нем природой, брали свое.
Начиналась его жизнь и на экране.
Фильм «Путь на арену» — незамысловатая история о том, как сын профессора,
вопреки воле родителей, стал клоуном. Роль писалась специально для Енгибарова.
Первая встреча с кинематографом показала — молодой артист органичен перед
съемочной камерой, не наигрывает, как большинство новичков, легко схватывает
приемы киновыразительности, профессионально владеет речью. Тем не менее дебют
оставил горечь неудовлетворения: рассказ о талантливом юноше оказался
поверхностным. Не утешило и то, что в прессе появилось несколько одобрительных
рецензий в адрес исполнителя главной роли.
И все же, хотя фильм и не принес взыскательному артисту творческой радости, это
не отвратило его от магии кино. Он ждал новых приглашений, и они не замедлили
последовать: «Тени забытых предков», новогодний «Киноогонек», чехословацкая лента
«Паренек прощается с Прагой», «Печки-лавочки», «Юность на манеже». К сожалению,
все эти эпизодического характера работы были для него малоинтересны.
Более пристального внимания заслуживает лишь документальный кинопортрет «Леонид
Енгибаров — знакомьтесь». Картина сделана мастерской рукой — объемно и
впечатляюще. Режиссеру И. С. Гутману (он же и оператор) удалось показать
внутренний мир актера, показать тонко, ненавязчиво. Енгибаров представлен в
различных ракурсах: это и обаятельный комик, и большой труженик, самозабвенно
преданный своему делу, и общительный, подкупающий искренностью человек, это и
познавший радость успеха любимец публики. Мы видим артиста в манеже,
восхищаемся забавными, филигранно отточенными жонглерскими пассажами, смотрим
оригинальные пантомимы, исполняемые им на концертной эстраде. Он предстает
перед нами и в кругу друзей как заразительно веселый импровизатор. Камера
заглядывает в гримировочную артиста, и мы заинтересованно наблюдаем Енгибарова
в поиске смешного. Видим его глаза, глаза вдумчивого художника. Пристальное
внимание авторов фильма к особенностям цирковой профессии позволяет зрителям
представить, какой колоссальной энергии стоят артисту его уникальные
акробатические трюки, восхищающие нас легкостью и виртуозным исполнением. И,
право, зорко подсмотренная кинообъективом сильная рука эквилибриста, только что
вернувшегося с манежа после номера, вздрагивающая от перегрузки, рука со
вздувшимися венами говорит нам куда как много. И мы начинаем понимать, какой
ценой достигается и эта легкость и ежевечерняя радость встреч со зрителем.
Последней работой Енгибарова в кино было участие в ленте Тенгиза Абуладзе
«Ожерелье для моей любимой». Однако настоящие отношения с кинематографом у
циркового артиста не сложились. Или, мягче говоря, не успели сложиться. И это
при том, что многие режиссеры отмечали его богатейший природный талант, из ряда
вон выходящую пластичность, удивительное чувство юмора.
Сам Енгибаров активно стремился вплотную приблизиться к заветному экрану,
хорошо чувствуя свои потенциальные возможности, трезво осознавая, что мог бы
стать полезным кинематографу. Это искусство привлекло его многими своими
сторонами: он мечтал проявить себя не только как актер- комик, но и как
режиссер и автор сценариев. Помышлял и о мультипликации, возлагая на союз с
этим видом киноискусства большие надежды. И горячо уверял друзей, что рано или
поздно все это непременно сбудется.
А пока, в ожидании интересного сценария от работников киностудий, ке
скупившихся на посулы и заверения, сам взялся за перо и написал несколько
короткометражных комедий: «Мечты, мечты...», «Два — Леонид — два», «Прощай, но
я вернусь». (По двум последним были сняты фильмы.)
Более всего Енгибарова притягивала лирико- эксцентрическая комедия, Для этого у
него скопилось много материала — комические ситуации, трюки, жизненные
наблюдения, то, что он называл в шутку «заготзерном». Грезил о серии лирических
комедий, действие в которых развивалось бы в ключе забавной эксцентрики, где
его герой совершал бы смешные, но осмысленные поступки, где органично
«сплавлялись бы печаль и смех, глубокая мысль и шутка».
В последние два года эта мечта неотступно преследовала его, что нашло отражение
во многих интервью. В частности, беседуя с корреспондентом «Литературной
газеты», Енгибаров не без горечи посетовал, что «секрет чистой киноэксцентрики
сегодня утерян...».
Леонид был убежден, что близок к постижению этого секрета и, представься ему
только случай, создал бы веселую и умную ленту. С таким прицелом он помышлял
даже поступить на режиссерское отделение ВГИКа. Лично у меня нет ни тени
сомнения в том, что из него вышел бы хороший комедиограф экрана, наверняка, он
снимал бы фильмы, столь же изящные и оригинальные, как его цирковые интермедии
и литературные новеллы.
3
На страницах «Истории мирового цирка», выпущенной в издательстве «Искусство»,
автор этой книги, французский исследователь Доменик Жандо, анализируя
творческий метод современных клоунов, пишет: «Самый интересный из них Леонид
Енгибаров — темноволосый молодой человек приятной наружности, с холодным юмором
на грани абсурда — напоминал обликом Китона в фильме «Генерал». <...>
Енгибаров мог развеселить любую публику — сценки его были зрелищны и потрясающе
смешны. Кроме того, его армянский темперамент был ближе к нашему, чем славянский
темперамент русских ».
Оценка творчества советского клоуна, бесспорно, высока. Но трудно, просто
невозможно согласиться с авторским определением: «...юмор на грани абсурда». И
все же историк цирка подметил существенную черту его творческого облика — армянский
темперамент.
С того момента, когда Енгибаров впервые приехал в Ереван, на землю отца, он
окунулся в незнакомый мир, полный национального своеобразия, мир неизведанных
впечатлений. Все здесь было для него внове: и величие природы, и бытовой уклад,
и ритм жизни, и очарование страны, и впечатляющие картины современности. Все
было интересно: сущность национального характера, нравы, говор, интонационный
строй, выразительная жестикуляция, своеобразный юмор. Хотелось глубже
проникнуть в народную жизнь, приобщиться к ней.
Наблюдательный и памятливый, он с жадностью впитывал в себя поток впечатлений.
Восторгался национальным зодчеством, в котором удивительнейшим образом сплелось
новое и традиционное. Обошел все музеи, осмотрел все старинные храмы и все памятники;
забредал на окраины города, поднимался на четырехглавый Арарац, любовался с
высоты живописной панорамой города и сверкающей на солнце дочерью Севана, рекой
Раздан, которая игриво струится по всей Араратской долине. Вдыхал пряные запахи
огромного рынка, равного какому видеть ему еще не приходилось.
Родина предков входила в его сердце не только веянием горного ветра и яркими
красками юга, но и развалинами древних поселений, крепостными и монастырскими
стенами, картинами народной жизни. Только теперь он понял, как мало, слишком
мало знал об Армении.
Леонид пристрастился к книгам об этом самобытном крае, отдавая предпочтение
историческим, с головой окунулся в изучение фольклора, записывал пословицы (его
блокноты заполнены ими), читал армянские сказки, талантливо проиллюстрированные
Мартиросом Сарьяном, встречи с которым оставили в душе актера неизгладимый
след. Заслушивался мелодикой народных напевов и танцев. Хотелось лучше узнать
прошлое Армении, познакомиться с ее художниками и поэтами, прикоснуться к
истории духовной культуры.
Прием, оказанный Енгибарову в Ереване, был более чем горячим — бурным. Он стал
кумиром ереванцев. Экспансивные поклонники шумно выражали свое восхищение. За
ним ходили по улицам толпы людей. Посмотреть его выступления приезжали из
дальних мест. Цирковой клоун стал героем дня — имя Енгибарова было у всех на
устах. Необыкновенная популярность позволила ему завязывать широкие знакомства
и дружбу со многими интересными людьми.
Друзья возили его на Севан, в заповедный Ванадзорский лес. В Матенадаране,
хранилище уникальных древних рукописей, он с трепетом душевным держал в руках
пергаментные листы великого Тороса Рослина, источающие аромат времени. Леониду
показывали миниатюры мастеров далекого прошлого, на которых с неподражаемым юмором
запечатлены сцены жизни древних городов. Артист пристально всматривался в
изображение акробатов, словно хотел проникнуть в седую старину и оживить
выступления бродячих гистрионов.
Тогда же остро пожалел, что не знает армянского языка (отец «по-своему говорил
только с гостями из Еревана»). И Леонид засел за учебник. Потом он скажет,
полушутя, что научился «объясняться в любви, ругаться и с трудом читать
рецензии на свои выступления в армянских газетах».
Встреча с родиной отца оставила глубочайший след в душе Енгибарова. Впечатления
были столь яркими и сильными, что вылились в поэтические строки, полные любви и
признательности: Леонид написал цикл новелл, объединенных общим названием «Моя
Армения». Ереван, в сущности, стал его вторым «очагом». Отныне Леонид будет
пользоваться любой возможностью, чтобы приехать сюда. Теперь его будет
связывать с этим городом ас только цирк, но и литература, и многочисленные
друзья, и кино.
До предела насыщенная художественная жизнь в Ереване явилась для Леонида
Енгибарова сильнейшей духовной встряской. Общение с большим кругом людей самых
различных профессий и взглядов, обилие впечатлений как жизненных, так и
артистических — все это преломлялось в его незаурядной натуре и в конечном
итоге влияло на художническое восприятие. Ереван сделал его видение мира более
зрелым, а его эстетическое чувство более развитым.
Признанный варпет цирковой арены (варпетом в Армении называет сложившегося
мастера, в высшей степени искусного в своем деле), Енгибаров серьезно
заинтересовался национальными формами комизма, традиционными игровыми приемами
армянских странствующих комедиантов-катака. Древне армянский смеховой мир стал
предметом его изучения. В связи с этим он писал в небольшой статье «Мой смех»,
что был покорен «техникой смешного, какой пользовались армянские народные
комики, и усердно штудировал ее». Но тут же оговаривался, что это не было
прямым заимствованием, так же как не перенимал он впрямую и сюжеты очаровавших
его армянских народных сказок. «Я впитывал в себя сам дух национальной
культуры, ее неповторимое своеобразие». Да, конечно, влияние на Енгибарова этой
культуры было внутренним, глубинным. Оно отразилось на качественно новом
подходе к своему творчеству, на авторском и режиссерском мышлении и, наконец,
на самом характере его выступлений. В манере героя Енгибарова появились
национальные черточки, он стал похож на бойкого мальчишку с ереванских улиц.
Этот образ органично вписывался в программу Армянского цирка. Можно смело
утверждать: если бы Леонид своим внешним видом, подтянутой сухопарой фигурой,
экспрессивными жестами и всем поведением на манеже не воспринимался зрителями-
ереванцами как их земляк, он вряд ли снискал бы столь восторженный прием и
всеобщее признание.
4
Творчеству Леонида Енгибарова как артиста, режиссера и литератора была присуща
поэтическая направленность. В интервью журналистке ереванской газеты «Советакан
Граканутгон» он сказал: «Для моего стиля характерно поэтическое видение
действительности. Это мой подход к материалу». В его понимании поэзия означает
окрыленность, воспарение над серой бытовщиной; она способна мечту превращать в
реальный факт, смещать время, переносить пас в будущее и прошлое. Поэзия
немыслима без искренности чувств. Именно это и отличало творческую манеру
коверного-мима.
Уход в мир поэтической мечты для него не был средством укрыться от
действительности. Мечтания нужны были ему как стимулятор творчества, они
оказывали влияние на выбор тематики, преимущественно нравственного характера.
Поэтическая струя пронизывала все, что он создавал для манежа, все, что писал,
о чем размышлял. «Клоун в моем представлении — это поэт и сказочник»—так Леонид
с исчерпывающей краткостью выразил во время одного из наших разговоров свое
художническое кредо.
«Клоун-поэт» — заучит, согласитесь, не так привычно, как, скажем,
«клоун-сатирик», «злободневный клоун». Этот эпитет ассоциируется лишь с
конкретным актером — Леонидом Енгибаровым и употреблен для более точной
характеристики существа его творческого метода.
Я не могу назвать ни одного другого видного циркового комика, как нашего
времени, так и прошлого, к кому можно было бы отнести этот эпитет. Были комики
смешнее, были гораздо искуснее в цирковых трюках, но не со столь ярко
выраженной поэтической направленностью. Поэтическое начало в его творчестве шло
в одном русле с художественными исканиями нашего театра и кинематографа,
которые наиболее четко обозначились в середине 60-х годов. Искания эти получили
определение: «поэтический театр» и «поэтическое кино».
Из каких же компонентов складывается понятие «клоун- поэт»? Оно вбирает в себя
лирическую окрашенность многих енгибаровских миниатюр, веселую романтику и
мечтательность его героя, сознательный отказ от обыденности.
«Я не повторяю жизнь,— писал он,— а выражаю ее. Самое главное для меня —
собственный взгляд на вещи».
В этой связи клоун-поэт активно отвергал всяческую заземленность, «искусство,
от которого ни холодно, ни жарко». Ибо оно способно лишь «убить всю
сказочность, всю романтику циркового представления». Енгибаров мыслил
поэтическими категориями и был способен замечать поэтическое всюду, где только
оно имелось. Ему было в радость собирать «зерна поэзии, чтобы из них вырастали
невиданные цветы», как говорил Паустовский о людях с душой поэта.
Творчество выдающегося клоуна-мима, режиссера и литератора было согрето
пламенем романтизма, которое отбрасывало отсвет на все создаваемые им образы.
Пусть мой герой, говорил он, будет «овеян духом романтики, пусть это свойство
отразится на его характере». Романтизм в понимании Енгибарова был не героического
толка, а сугубо лирического.
Тема любви занимала значительное, если не сказать преобладающее, место в его
произведениях. Любовь и еще человечность.
Примечательна в этом смысле интермедия «Красный шар». Оригинальностью решения и
стилем она как нельзя более вписывалась в поэтическую направленность его
репертуара. Десятиминутная цирковая миниатюра «Красный шар» была навеяна
известным французским фильмом того же названия. Молодой клоун был очарован
лентой, снятой режиссером А. Ламорисом. И под ее впечатлением создал свой
вариант — лирическую историю о том, как некий чудаковатый юноша, возвращаясь с
карнавала, а может, с праздничного гулянья, по всей видимости, не слишком-то
счастливого для него, неожиданно повстречал забытый кем- то Воздушный Шарик.
Шарик вел себя словно одушевленное существо. Весел, но своенравен, он не сразу
дался в руки встречному, испытывал, быть может, своего нового знакомца... Но
вот они уже друзья. Что ж, отвергла Она, зато у него теперь есть Шарик, такой
чуткий и ласковый, такой верный... Недолгой, однако, была их трогательная
дружба: грубая метла дворника прервала эфемерную жизнь летучего приятеля.
Кровавой кляксой шлепнулся Шарик на бульварную скамью...
Лирические интермедии Енгибарова несли в себе тончайшие оттенки светлой печали.
Но иногда в причудливую мелодию эксцентрических пассажей вплетались даже
грустные ноты/ Могли ли мы представить себе грустящими на манеже Карандаша или
Юрия Никулина, Константина Бермана или Бориса Вяткина? Нет, такое было
невозможно. Никто из них не подтвердил этого на протяжении своей долголетней
практики. А между тем веселое и печальное неотделимо от многообразия жизни. И в
искусстве смешное и грустное всегда сопутствуют Друг другу, как две маски —
трагическая и комическая.
Романтический аспект, способный, по образному выражению «самого романтического
романтика» Виктора Гюго, превращать мерцание в свет, а свет — в пламя, и стал
доминантой в трактовке его интермедий и литературных миниатюр. И в этом
неповторимость Леонида Енгибарова — клоуна-поэта.
5
К середине 60-х годов сложился творческий метод Леонида Енгибарова. Слово
«метод» в переводе с греческого означает «путь к чему-либо». Именно под этим
углом зрения мы и будем рассматривать восхождение артиста к вершинам своего
искусства.
Творчество любого художника не бывает однозначным, оно всегда имеет несколько
граней, тесно связанных с личностью творца, неотделимых от его эстетического
опыта и мировоззрения. Особенности исполнительской, авторской и режиссерской
манеры Енгибарова образовали цельную художественную систему, состоящую из
отбора явлений действительности, их оценки в конкретной исторической обстановке
и, наконец, выбора цирковых средств, какими должен быть воплощен материал в
образно-зрелищной форме.
Но прежде всего обратимся к психологии его творческого процесса. Во время одной
из наших бесед. Леонид Георгиевич сказал, что нередко ловит себя на том, что
внимательно приглядывается к каждому предмету, вникает в каждое явление
повседневности. И связывает их со своим героем, постоянно выдвигая гипотезы:
что случится, если его Леня поступит так-то, соприкоснется с тем-то. И сразу
оценка ситуации: нет — старо, уже было. А вот это, кажется, свежо, надо бы
домыслить...
В другой раз я услышал от него, что он начал задумываться, когда его чаще
посещает муза. «И понял — на ходу, когда шагаю пешком или тренируюсь». Потом
добавил, что очень дорожит мгновениями, в которые обретает состояние
непринужденности. Тогда «все получается с веселой улыбкой, легко и быстро, как
бы само собой. И я начинаю испытывать чувство радости, и радость не покидает
меня часа два-три». На эти-то счастливые часы и выпадало, по его словам, лучшее
из придуманного. «Мне оставалось,— говорил он,— только запоминать рожденное
импровизационно».
Однако было бы ошибочным считать, что творческий процесс — это сплошная
радость. «Новая реприза, новая пантомима так дорого стоят автору, кажется, нет
такого гонорара, который бы мог окупить его муки...— так определил свое
состояние Енгибаров в книге «Последний раунд».— Сколько стоит за этим часов самоистязания,
самобичевания, сколько часов отчаяния от мысли, что ты абсолютно бездарен» 29.
«Авторский ад», «самоистязание» — здесь ни грана преувеличения.
«Если ты стремишься,— сказал Енгибаров в интервью журналу «Смена»,— привнести в
свой труд что-то новое, то всегда' неизбежна борьба с самим собой, с
устаревшими представлениями». У всех творцов во все времена борьба с самим
собой была наиболее драматична, всегда связана с подъемом всех духовных сил и
крайним обострением мыслей. Еще двести лет назад люди, которые избрали своей
профессией искусство вызывать смех, вели жизнь, по свидетельству тогдашнего
клоуна, англичанина Чарли Киса, «полную умственного напряжения». Эдмон Гонкур,
автор романа «Братья Земгано», писал о молодом герое, клоуне Джанни, что тот
искал свои номера «с тем умственным напряжением (обратим внимание, те же самые
слова: умственное напряжение!), с каким математик ищет решение задачи, химик —
формулу красящего вещества, музыкант — мелодию, механик — железную, деревянную
или каменную конструкцию. Как и эти одержимые одною идеей люди, он был рассеян,
задумчив, жил вне реальности».
Новое во всех областях жизни, как хорошо известно каждому, определяет движение
общества вперед. В безостановочном развитии пребывает и язык каждого искусства,
он непрерывно совершенствуется, приобретает новые формы. И происходит это не
стихийно, а чаще всего целенаправленно, волевым усилием даровитых художников-
новаторов, к числу которых принадлежал и Енгибаров». Обогащение циркового
искусства новыми зрелищными формами совершается хотя и не столь энергично, как,
скажем, кинематографа, но и на манеже время от времени мы видим подлинные
находки.
Упорный поиск новизны в клоунаде — главный, определяющий признак творческого
облика Леонида Енгибаров а, доминанта его профессиональных устремлений,
эстетическая позиция и повседневная практика. Особенности его мышления
позволяли ему гораздо чаще, чем другим, вынашивать новые идеи, отыскивать
неожиданное, обогащать средства циркового комизма. Его увлекала сама поэзия
открытия неизведанных возможностей в искусстве клоунады.
На вопрос корреспондента киевской газеты «Пид прапором ленинизму» «Как
возникает замысел ваших реприз?»— Енгибаров ответил: «Мой мозг, моя воля и
чувства всегда в бдительном состоянии. И всегда настроен на определенную цель,
точнее, на круг задач, которые ставлю перед собой... Это вроде многоволнового
радиотранзистора: ловишь станции всего мира, а оставляешь только то, что тебе
нужно сейчас».
А в другом интервью о том же сказал следующее: «Не исключены, конечно, и
внезапные озарения, когда выдумка возникает в голове словно бы случайно, по
наитию, как говорили когда-то. Вдруг тебя осенило — ну прямо ослепительная
вспышка. И вещь сама сообщила о себе: «Смотри, какая внутри у меня скрыта
хитрая пружинка!»
Наделенный редкой способностью «видеть свои мысли», Енгибаров фокусировал все
внимание на этом предмете, и поначалу смутно вырисовывающийся замысел обретал в
конце концов зримые контуры.
Он любил поразмышлять об удачных творческих находках. Каждая выдумка, говорил
он, должна нести в себе идею, хотя бы отчасти приближающуюся по глубине к той,
какой наделил свой замысел скульптор, создавший памятник Линкольну. Как
известно, фигура президента США установлена на пьедестале, к которому ведет
величественная лестница в пятьдесят шесть ступенек — по количеству лет,
прожитых этим самым почитаемым гражданином Америки, выходцем из народа и
любимцем народа. Вот идеальный образец органичного сплава глубокого содержания
и прекрасной формы.
Енгибаров не мирился с цирковыми штампами, которые, что греха таить, имеют
обыкновение прочно укореняться на арене. В нем жил смелый экспериментатор, он
всегда готов был рисковать ради новизны. А свои «придумки» (его слово)
стремился облекать в яркую современную форму, повторяя при этом: публика
сегодня уже далеко не та, что приходила в цирк пять лет назад. Зрители 60-х
годов постоянно видят новое в ' театре, в кино, дома у себя на телеэкране,
наслаждаются тонкой актерской игрой, современной режиссурой. Люди перенасыщены
зрелищами. «А многие из нас,— замечал он не без сарказма,— пробавляются
приемами пятидесятилетней давности.
Впечатления от окружающего мира, эмоционально пережитые Леонидом и преломленные
в художническом сознании, становились первым творческим импульсом,
перерабатывались в специфически-цирковые образы, решенные по-современному.
Однако он избегал злободневности и бытовщины, предпочитая темы, которые принято
называть вечными, такие, как долг, доброта, ревность, любовь, эгоизм, борьба со
злом... Свой эстетический принцип Енгибаров определил достаточно четко: «Для
меня не существует — «все, как в жизни», если в эту формулу не привнесено свое
«я».
Дух созидания был в этой беспокойной натуре необыкновенно могуч: «Каждое утро я
должен проводить за письменным столом... Каждый день что-то выдумывать,
изобретать, иначе придешь к зрителям пустым». «Как я создаю свои сценки? —
переспрашивал он журналистов и отвечал: — Определенных канонов здесь нет.
Всегда по-разному». Но при этом одно оставалось неизменным: всякий замысленный
вчерне номер, всякую сценку или пантомиму Енгибаров непременно должен был
записать на бумаге в виде новеллы: «Я додумываю вещи кончиком пера». А уж после
этого написанное получало определенный адрес: что- то предназначалось для
манежа, что-то для кино, что-то для эстрады, смотря по тому, где сможет
получить наиболее яркое воплощение. Следует отметить некую присущую его
творческой манере особенность — если одну новеллу он сочинил за письменным
столом, то другую придумывал, допустим, на подоконнике, а третью — в гостиничном
холле. «Хоть н говорится, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется,—
писал артист,— но лично для меня это не так. Для меня решающее значение имеет —
не повторить то место, где была написана предыдущая новелла. Следующая
обязательно должна лечь на чистый лист в других условиях. Иначе ничего не
получится». Назовите это самовнушением или просто причудой, но так уж повелось
и так оставалось до последних дней.
Время от времени наступал момент, когда Енгибаров чувствовал, что «весь
выговорился», что в его голове не возникают свежие мысли. Тогда ему
требовалось, по его словам, открыть ворота для новых жизненных впечатлений. «Я
понимал,— говорил он,— что должен начать заряжаться, как аккумулятор: музыкой,
чтением, посещением выставок, театров, концертов, мастерских художников,
встречами с интересными людьми. И вовсе не обязательно, чтобы эти встречи
приводили к дружбе».
В этот же период в нем пробуждалась жажда путешествий. Лучше всего он
чувствовал себя в дороге: на борту самолета, в поезде, в машине, а еще лучше —
на задней площадке трамвая. «Без всего этого моя лампочка не засветится. Или
будет гореть в полнакала...»
Работая над повой интермедией, Енгибаров прежде всего выстраивал образ «вещи»
(под словом «вещь» он подразумевал цирковые произведения) и стремился выделить
основную мысль. Но если желаемого решения достичь не удавалось, то отказывался
от трюков, достигнутых ценой изнурительных тренировок. Без колебаний отметал он
и замыслы, которые хоть отдаленно напоминали исполняемое другими клоунами. Так
в сущности и произошло с «Лошадкой».
Издавна в цирке существовала смешная сценка «Пешая кавалерия», в которой комики
гарцевали по манежу верхом на игрушечных конях. Это была пародия на цирковых
наездников. Обаяние сценки держится на какой-то необъяснимой психологической
загадке: вот уже несколько десятков поколений зрителей в разных странах с
неизменным интересом смотрят на веселые скачки забавных всадников и с детской
непосредственностью поддаются очарованию незамысловатого шутовского зрелища.
Цирковые комики заимствовали эту сценку из сокровищницы праздничных увеселений.
Забава эта испокон бытовала у многих народов. Армянские комедианты катака-
гусаны начинали свои выступления, шумно выезжая веселой ватагой верхом на
палках, к которым были прикреплены конские головы и хвосты, ноги же всадников
прикрывала материя, спускавшаяся до земли. Подобного рода лошадок показывали и
среднеазиатские масхарабозы. В Англии еще во времена Шекспира «хобби-хоре», то
есть конская голова и хвост, были любимым развлечением народа на праздниках.
Всадники потешали толпу, изображая бег и прыжки лошадей.
Енгибаров уже видел себя в манеже верхом на такой лошадке, хорошо сочетавшейся
с характером его Лени...
«Лошадка будет похожа на персонаж мультипликации,— делился он своим замыслом,—
у нее будут открываться и закрываться огромные голубые глаза. Она будет
плакать, в какой-то момент у бедняжки хлынут слезы двумя фонтанами, как у
старого рыжего. От удивления ее грива будет подниматься дыбом. Я хочу совсем
очеловечить ее, чтобы она была очень обаятельной, стала моим Коньком-Горбунком.
Еще я думаю и, возможно, сделаю, что у моего коняшки вдруг появятся два золотых
крылышка, как у Пегаса...».
Однако чудо-коньку не суждено было воспарить над манежем. В очередной приезд в
Москву Енгибаров пришел в цирк на Цветном бульваре и не без грусти увидел, что
опоздал: замечательных лошадок уже вывели в манеж талантливые клоуны Никулин и
Шуйдин; сделали они сценку оригинально, современно и очень весело. Не
повторяться же!..
Осуществляя свои замыслы, давая им сценическую жизнь, Леонид Енгибаров
придерживался, как сам это определил, «принципа большого камня-). Клоун
говорил: «Мне всегда нужно наработать много больше, чем требуется, чтобы потом
отсекать лишнее». Под словами «больше, чем требуется» он подразумевал набор
комических деталей, трюков, а также два-три варианта решения какого-то
фрагмента будущего номера. Хорошо это или плохо? С одной стороны, считал актер,
хорошо — располагаешь выбором, а с другой — плохо, ибо понимаешь: все, что ты накопил,
не может войти в номер. Наступает момент, когда нужно остановиться на чем- то
определенном и отсекать лишнее. А это совсем не просто: и тот кусок кажется
тебе удавшимся и этот неплох — автору все дорого. Ведь все рождено в муках. Чем
же пожертвовать? Енгибаров признавался: «Самое трудное для меня — быть
монтажером собственной ленты».
И действительно, как определить, что необходимо убрать, а что оставить? Какой
внутренней подсказкой установишь искомую золотую середину? Бесценный творческий
дар — уметь находить у себя лишнее! Будь ты актером, писателем, режиссером,
композитором или художником, без чувства меры никак не обойтись. «Всякий
творческий человек,— писал артист,— должен быть наделен чуткостью сейсмографа и
твердостью хирурга». Художественный вкус Енгибарова был безупречен.
Еще одна особенность его метода — чрезмерная осторожность при выпуске в свет
нового репертуара. «Не знаю, как у других,— сетовал он,— а у меня всегдашняя
неуверенность. Меня постоянно осаждают сомнения, каждый раз что-то неясно.
Поэтому так долго вынашиваю каждую вещь: все кажется, что еще не до конца
отрепетировано, не все додумано, не все акценты расставлены, хочется добавлять
новое, менять отдельные куски местами ». Часто вчерне сделанную вещь он
откладывал на какое-то время: «Пусть отлежится, отдохнет от меня, а я — от
нее».
Для актерской индивидуальности Енгибарова была характерна и щедрость на
импровизации. Проявлялось обычно это качество в двух случаях. Во-первых, когда
во время представления возникала неожиданная ситуация, или, по его словам,
форс-мажор — опаздывал на выход артист, не подготовлен реквизит или что-то
другое в том же духе; в этом случае от коверного требовалось заполнить
непредвиденную паузу, подчас довольно продолжительную. И второй случай —
импровизации в счастливые минуты творческого вдохновения, когда, по словам
актера, -внутри у него вдруг как бы вспыхивает огонек, в сеете которого все
предстает по-новому.
Енгибарова буквально обуревали творческие замыслы. Рождаемые его буйной
фантазией, они теснились в голове, настойчиво требуя воплощения. В нем жила
потребность делиться своими придумками с друзьями; для него было важно услышать
мнение людей, художественному вкусу которых доверял. При этом никогда не
засекречивал свои находки, рассказывал о них налево и направо, не внимая
предупреждениям, что изобретенное им могут присвоить. Отмахивался: «Тот, кто
смог сделать одно открытие, способен на десять новых». Полушутя-полусерьезно
величал себя смеховых дел мастером. А еще — не без гордости — «выдумщиком». Говорил,
что во времена, «когда комедия была королевой киноэкрана», им дорожили бы па
киностудии, как плодовитым гэгменом, то есть изобретателем комических
кунштюков.
Конечно, мне известны далеко не все его задумки, но даже и то, что знаю,—
немало. Помнится, например, как он был увлечен идеей сделать внутри барьерного
кольца «клоунскую служебку», попросту говоря, нечто вроде шкафчика с двумя
дверцами. «В какой-то момент,— говорил он,— я неожиданно для всех распахиваю
дверцы служебки и достаю оттуда нужный предмет... Допустим, я упал, ушибся,
извлекаю лампу синего цвета, включаю в розетку и облучаю ушибленное место...
Или так: вынимаю белоснежную салфетку, расстилаю на барьере, публика пока еще
ничего не поймет, но лица у всех, убежден, светятся улыбками заинтересованности.
Я «сервирую стол»: ставлю на салфетку две тарелочки, кладу два прибора и
опускаю в хрустальную вазочку алую розу. Остается сделать завершающий жест:
рядом помещена табличка па подставке: «Обеденный перерыв». И все становится
ясно. А в этот момент объявляют воздушную гимнастку. Она, как обычно, выходит,
кланяется, и тут я приближаюсь к ней и жестом приглашаю поужинать со мной».
Мечтал, например, создать цирковой номер «Детский вольтиж на страусах». Где-то
он прочитал, что в одной из африканских стран проводятся азартные мальчишеские
гонки верхом на страусах. Леонид наводил справки в Зооцентре о возможности
приобретения долгоногих «скакунов ».
Едва ли не каждый подлинно творческий человек имеет свое «кладбище
неосуществленных замыслов». У Енгибарова оно было весьма и весьма обширным,
«Покоится» там и проект небывалого номера, в котором использовалась бы езда на
скейт-борде — доске с роликами. (Теперь его называют скатом.) Идея возникла,
когда артист был в Вене. На одной из улиц он увидел парнишку в желтом пуловере,
синих шортах и красном шлеме, который ловко лавировал на такой доске по
асфальту. В тот же день в магазине Леонид внимательно рассмотрел принцип
устройства ската и в Москве сделал для себя тренировочный экземпляр.
Осуществить, однако, свой замысел не успел. Но жизнь подтвердила реальность
этой творческой идеи: на нашей арене уже появился оригинальный групповой номер,
в котором изобретательно использованы скаты.
Итак, мы познакомились в общих чертах с творческой лабораторией Леонида Енгибарова.
Остается добавить, что в своих исканиях, в разработке нового стиля клоунады,
который характеризуется обостренным чувством времени, содержательностью
интермедий, более высоким уровнем актерского мастерства, он не был одинок.
Параллельно с ним шли Олег Попов, Юрий Никулин, Андрей Николаев. Евгений
Майхровский неоднократно заявлял, что считает себя учеником Енгибарова, и тем
самым явил убедительный пример плодотворной преемственности клоунских
поколений.
6
О клоуне Енгибарове написано много. И, к сожалению, ничего о нем как о
режиссере.
Его режиссерские задатки начали проявляться рано. Став артистом, он пробует
себя в этом плане, постоянно что-то переиначивает и переосмысливает. Посмотрел,
к примеру, программу мюзик-холла и пускается с увлечением рассказывать, как бы
он видоизменил тот или иной фрагмент спектакля. Или как по-своему сделал бы
начало нашумевшего фильма. И, представьте, это всегда было интересно. Я
постоянно слышал от него: «Это лучше бы поставить так- то...», «Я бы
мизансценировал иначе...» или «Экспозиция этой вещи мне представляется не
такой».
Он видел явления искусства и жизни глазами постановщика.
В программках и рецензиях раннего периода встречаются фамилии постановщиков,
под руководством которых были созданы его интермедии. Но талант этого мастера
арены был так могуч, он так активно вносил во все свое художническое «я», что
можно говорить не о руководстве, а лишь о сотрудничестве.
Режиссерское начало в даровании Енгибарова было, на мой взгляд, преобладающим.
Впрочем, распространялось это свойство не только на манеж или экран.
Запомнилось в этой связи его суждение об одном «просчете» великого сказочника
Андерсена.
«Лен» его помните? — спросил он.— Историю о том, как голубой цветок превратился
сперва в холст, потом в бумагу? Бумагу в конце сжигают, на том история и
кончается. А было бы лучше, диалектичней, если бы финал был таким: золу
высыпали в поле, а в конце весны зола обратилась новым голубым цветком». И в
этой «доработке» был весь Енгибаров.
Среди заметок, наблюдений, мыслей, которые он заносил на страницы своих
записных книжек, можно прочитать под датой 23 августа 1966 года: «Нет ничего
прекраснее процесса «рождения» замысла. Контур еле заметный становится четким.
Это — счастье!»
Чем больше возрастал цирковой опыт Енгибарова, тем сильнее ему хотелось
режиссировать. Его распирало стремление создавать новое, придумывать, сочинять,
воплощать замыслы и живые образы. Искусство клоунады, говорил он, как, пожалуй,
никакой другой из цирковых жанров предоставляет творцу возможность выразить
свою сущность, свои художественные пристрастия, свою эстетическую позицию.
«Режиссура,— сказал он мне как-то,— сладкая песня моего сердца».
От природы человек пытливый и любознательный, к тому же наделенный острым
зрением, Леонид Енгибаров не упускал случая понаблюдать за постановочным
процессом ведущих режиссеров нашего цирка: А. Арнольда. Г. Венецианова и Н.
Зиновьева. Заинтересованно следить со стороны за их работой было весьма
поучительно. Не день и не два провел он во время гастролей в Праге на
репетициях известного постановщика пантомимических спектаклей Владислава Фиалки
в его театре «На забрадли», жадно впитывал в себя опыт маститого мима. Все это
шло в копилку режиссерского самообразования.
Точно так же, как и уроки кино. Всякий раз, присутствуя на съемочной площадке,
он зорко приглядывался: что да как, наматывал на ус каждую подробность,
набирался с дальним прицелом ума-разума. Или, по выражению В. Э. Мейерхольда,
«вырабатывал в себе походку режиссера».
К середине 60-х годов Енгибаров уже приобрел определенный навык в постановке
клоунских интермедий и номеров, и не только для себя, но и для других
исполнителей. Цирковая молва стоуста. Узнав о его полезных советах, к Леониду
стали обращаться за помощью. И довольно часто. Откликался на эти просьбы
«внештатный» режиссер охотно — его всерьез увлекало это занятие. Но одно дело
работа над чужим номером и другое — над собственным. Здесь все во много раз
сложнее. Приходится одновременно играть главную роль и режиссировать. В этом
случае ты лишен «оценивающего глаза» и «подсказок» опытного постановщика. По
счастью, Енгибаров обладал редким умением — видеть себя со стороны. {Актеры
театра образно называют это способностью «самозеркалить».) «Самозеркалье» и
позволяло ему ставить для себя сложно построенные клоунады, репризы и
интермедии.
Каждый режиссер цирка имеет свой почерк. Один из постановщиков приходит в манеж
репетировать с детально разработанным планом, продуманным в мельчайших
подробностях,— так работал главный режиссер Ленинградского цирка Г. Венецианов.
Другой являлся на площадку, не имея никаких предварительных заготовок, все
решалось на месте, импровизационно. Таков был метод А. Арнольда. Режиссерская
практика Енгибарова, хотя и не столь уж большая, сочетала в себе и тот и другой
методы. Случалось, однако, что придуманное дома почти целиком перестраивалось
во время репетиции. Его неистощимая фантазия на конкретной площадке, во
взаимодействии с партнерами неожиданно подсказывала новые решения, более яркие
и смелые.
В практике современного цирка утвердились два направления режиссерской
деятельности: постановка тематических спектаклей и создание отдельных номеров.
В соответствии с этими направлениями и пойдет наш разговор, сперва о постановке
номера, а затем о режиссуре спектакля.
Итак, номер. О его структуре, о роли и месте в цирковом представлении сказано
достаточно много и нет нужды повторяться. Для нашего рассказа существеннее
размышления по этому поводу самого Енгибарова, который утверждал, что постиг
секрет построения хорошего циркового и эстрадного номера. Я спросил Леонида
Георгиевича, в чем же, но его мнению, заключается этот секрет. «Секрет прост:
наличие в номере ярко выраженной драматургии»,— ответил он. И уточнил: «Номер,
лишенный драматургической пружины, обречен занимать место среди заурядных».
Да, пытливому художнику удалось проникнуть в самую сердцевину актуальной
проблемы. Но, к сожалению, драматургия номера в современном цирке —- один из
нерешенных вопросов. До сих пор не обобщен опыт лучших режиссеров старого и
современного цирков, а сам предмет не освещен теоретической мыслью.
Еще поэт Иван Рукавишников, который в 20-х годах был тесно связан с цирком,
подметил, что в большей части цирковых номеров отсутствует драматургия.
Воздавая должное высокому мастерству гимнастов и эквилибристов, автор говорит,
что их номера никак не выстроены, представляют собой «случайный набор
фрагментов. Если пояснить сравнением, то это не поэма, а диктант, не сад, а
ботанический атлас, раскрашенный рукой несведущего человека»
Иные из цирковых номеров, впрочем, и сегодня скучит»! и малоинтересны. А
почему? Да потому опять же, что «не выстроены», не имеют развития и смысловых
акцентов, одним словом, лишены драматургии. И вместе с тем манеж знает немало
цирковых произведений, успех которым обеспечивает именно драматургия. Это
«Повар и трубочист» братьев Костанди, «Шар смелости» Петра Маяцкого, «Прием у
доктора Айболита» Александра Попова, «Шипы и розы» в исполнении Юрия Никулина и
Михаила Шуйдина, «Полотер-неудачник» Алексея Шлискевича, эксцентрическая
акробатика «Негр и белый» (Л. Геллер н В. Белов), «Игра с тарелками» в
исполнении А. Петровского. Последний, хотя и не имеет сюжета в прямом смысле
этого слова, однако обладает настолько сильным драматургическим механизмом, что
захватывает зрителей, словно острый поединок любимых футбольных команд.
Наконец, «Прометей» — аттракцион, созданный Владимиром Волжанским.
Образцом драматургически правильно выстроенного номера может служить
выступление эквилибристов на шарах, которое я видел в небольшом цирке-шапито
Стокгольма.
...На манеж вышли двое — отец и дочь. Девочке на вид было не более
восьми-девяти лет; худенькая, белокурая, в голубом платьице, она, казалось,
сошла с известной картины Пикассо «Девочка на шаре». Посреди манежа была
установлена узкая дорожка, поднимающаяся спиралью кверху. (Нижнее кольцо
большое, а чем выше, тем кольца меньше и меньше.) Отец, стоя на шаре, ловко
пробежал по всем виткам спирали и сошел на площадку, венчающую это сооружение.
Очередь девочки. Шар под ней поменьше. Легкие белые туфельки мелко переступают
по круглой поверхности, раскинутые ручонки ищут баланс, гибкое тельце
склоняется то вправо, то влево — тоже помогает удерживать равновесие. Юная
артистка вкатилась на нижнее кольцо спирали, а перейти на второй виток,
довольно круто поднимающийся кверху, не смогла: силенок, что ли, не хватало, а
может, навыка... Резко перебирая ногами, она откатилась назад. Попыталась взять
препятствие с разгона. И снова неудача. Вскинула глаза на отца, дескать, как же
быть? А тот, смущенно улыбаясь, ободрил дочку взглядом: «Не отчаивайся. Пробуй
снова...» Как много сказали нам их взгляды; тревожный, ищущий поддержки взгляд
ребенка и подбадривающий — взрослого. И как много значило это переглядывание
для эмоционального воздействия номера!
Новая попытка — и вновь высота не покорилась. Худенькие ножки быстро-быстро
семенили по зыбкой поверхности шара, но его упорно относило назад — слишком
круто поднималась тропа. Не часто встретишь такую дружную и такую взволнованную
заинтересованность: весь цирк, как один человек, сопереживал юной эквилибристке
в ее борьбе за овладение строптивой высотой. Каждому хотелось, чтобы маленькой
артистке удалось преодолеть препятствие. И наконец-то настойчивость девочки на
шаре была вознаграждена победой — она достигла верхнего витка. Отец свесился и,
преисполненный торжествующей радости, подхватил дочь и одним махом усадил себе
на плечо. Цирк взорвался бурей несмолкающих аплодисментов. Девочка поднялась в
рост на отцовы плечи, и тот, ступив на шар, стал осторожно-осторожно спускаться
вниз со своей дорогой ношей. Весь этот путь они проделали в мертвой тишине под
напряженным взглядом всего цирка.
Вот что такое правильно выстроенная драматургия. Вот какими захватывающими
могут стать и не столь уж сложные трюки, если они получили образное решение, в
котором заранее запрограммирована эмоциональная активность зрительного зала.
Особенность драматургии циркового номера виделась Енгибарову в том, что
«авторская мысль выражается посредством занимательного трюкового действия». В
неопубликованной статье он сформулировал свое понимание этого предмета как
«преодоление все усложняющихся препятствий». В лучших номерах, говорил он,
имеется своя завязка, развитие и развязка. А кроме того, конфликт.
Различного рода столкновения забавных персонажей, противоборство характеров,
взглядов и желаний являются фундаментом драматургии цирковых номеров,
основанных на комизме. Лучшие клоунады построены на четко обозначенной
конфликтной ситуации. Типичной иллюстрацией к сказанному может служить
разыгрываемая с незапамятных времен акробатами-эксцентриками живая сценка
«Борьба за стул», в которой каждый из партнеров стремится хитростью и силой, с
помощью всевозможных акробатических трюков-каскадов овладеть стулом.
Традиционные фигуры классической клоунады — рыжий и белый — тоже контрастные
характеры, в своем лице они воплощают самый устойчивый тип конфликта. Рыжий и
белый — извечные антиподы цирковой арены. У них все различно: поступки,
темперамент, образ мыслей, различны цели, внутренний мир и внешний вид.
Глубоко и всесторонне охарактеризовал эти образы- маски и линию их
взаимоотношений кинорежиссер Федерико Феллини, большой знаток и почитатель
цирка. Белый клоун, по его словам, это изящество, ум, трезвость мысли. Он—
«олицетворение Мамы, Папы, Учителя, Художника, Прекрасного и вообще всего, что
«положено делать». Даже по внешнему виду белого клоуна «ясно, что он и
необыкновенный, и богатый, и могущественный. Лицо у него белое, как у призрака;
брови застыли в надменном изломе; рот прорисован прямой черточкой — жесткой,
неприятной, отталкивающей, холодной». Л рыжий, «которого можно сравнить с
ребенком, пачкающим под себя, бунтует против подобного совершенства...
Возможно, он и попал бы под очарование всех этих совершенств,— уточняет автор,—
если бы их так упорно не выставляли напоказ». Рыжий видит, как заманчиво
сверкают блестки на костюме белого, «но высокомерие, с которым их
демонстрируют, делает эту вещь для него недоступной». Вот почему он восстает,
вот почему «подстрекает к вечному протесту». «Привкус горечи в постоянной войне
между белым клоуном и рыжим возникает,— по мнению Феллини,— не от музыки или
чего-то в этом роде», а от самой сути характера рыжего, существа независимого,
не признающего никаких авторитетов. И к тому же — упрямого, ведь чем больше ты
будешь заставлять его «трать на скрипке, тем охотнее он будет дурачиться со
своим тромбоном». Здесь-то и начинается тот самый конфликт или, говоря словами
Феллини, «борьба между надменным культом разума (который тяготеет к эстетизму,
навязываемому силой) и инстинктом, свободой инстинкта». И примирить эти две
фигуры, заключает Феллини, никто не в состоянии. Потому что «они являют собой
два психологических состояния человека — тягу к возвышенному и тягу к
низменному,— существующие порознь, раздельно».
Крепкой драматургией наделены многие классические буффонадные антре,
выдержавшие испытание временем. Взять, к примеру, старинную сценку «Отрава»,
содержанием которой являлась слепая месть. Белому клоуну изменила возлюбленная,
и он решил жестоко покарать ее. С этой целью обезумевший ревнивец посылает
своего бестолкового партнера рыжего передать обманщице корзиночку отравленных
пирожных. Енгибарову очень нравилась фабула этой забытой миниатюры. Он
восхищался: «Какая ситуация! Какая драматургия! Л какие возможности для
комика... Но только здесь нужна абсолютная правда, предельная искренность. Все
всерьез, никакого наигрыша». Его прельстила острая ситуация и столкновение двух
противоположных начал — замученного ревностью белого клоуна и плута-рыжего,
который не смог удержаться от соблазна полакомиться пирожными. Драматургически
антре и впрямь обладает большой емкостью, несет в себе острый конфликт, кипение
страстей и энергичное развитие действия. «Отраву» любили исполнять все
клоуны-буфф. Помнится, как ярко действовал в предлагаемых обстоятельствах
популярный в 20—30-е годы комик Якобино. Особенно удавался ему тот момент,
когда, воровато озираясь, этот рыжий сладкоежка распечатывал коробку с
пирожными и неподражаемо восклицал, смакуя: — «Минда-а-альные!» Потом он очень
смешно играл борьбу между искушением и долгом. Побеждало искушение: «А, что я
буду миндальничать...»
Енгибаров говорил, что ставить и играть «Отраву» надо, как трагикомедию. «Но
действовать в образе актеры должны с той же правдой, с какой Остужев жил на сцене
в роли Отелло...».
Удачным примером клоунады на современную тему является интермедия «Телеманы» из
репертуара Ю. Никулина и М. Шуйдина (авторы М. Местечкин и С. Макаров}. Суть
этой забавной сценки состоит в том, что один из ее участников желает смотреть
по телевизору фильм «Семнадцать мгновений весны», а другой — по транзистору
слушать репортаж о футбольном матче. На этой почве и возникает ряд остро
комических положений.
К разновидностям конфликта в цирковой драматургии следует отнести и борьбу человека
с вещью. Этот принцип лежит в основе множества реприз и сценок из классического
клоунского репертуара. Рыжий традиционно пытается овладеть неподдающимися»
предметами: шамбарьером, велосипедом, проволокой и т. п. Вот, например,
скрипка. Она долго сопротивляется музыкальному эксцентрику, который
предпринимает попытку за попыткой извлечь из нее мелодию. В результате всех
злоключений лопается струна. Однако упорный музыкант продолжает играть,
протягивая оборванную струну... между пальцами. Остроумный выход из, казалось
бы, безнадежного положения и является эксцентрической сущностью номера, а
следовательно, и разрешением самого конфликта.
Цирковая драматургия знает также тип конфликта с дрессированными животными.
Классический пример тому — многократно описанная сценка корифея циркового смеха
Карандаша — столкновение с упрямым осликом; в конце долгой забавной борьбы
клоун сажает строптивца в тележку, а сам впрягается в нее и увозит с манежа.
Говоря о занимательном трюковом действии, Енгибаров имел в виду специфическую
особенность творчества циркового режиссера — мышление трюковым действием.
Трюк — одно из главных выразительных средств циркового искусства. Посредством
трюков режиссер и артист воплощают свою мысль в образной форме. Вот как в
спектакле Волжанских «Прометей» выражена мысль о великом напряжении
человеческой воли в борьбе за освоение космического пространства. На огромной
высоте, под пологом звездного циркового неба, по круто наклонному канату,
преодолевая смертельную опасность, движется человек... Ноги его скользят. Не
раз он скатывается назад, по упорство и отвага приводят его к цели — смельчак
достигает заветного мостика...
Это и есть мыслить трюковым действием, то есть выстраивать сюжет, намечать
конфликт, создавать образы действующих лиц и воплощать основную идею, оперируя
огромным арсеналом цирковых трюков. С этой целью режиссеру цирка необходимо
хорошо знать индивидуальные свойства каждого из жанров, бытующих на манеже,
знать их «разрешающую способность», или, говоря иначе, знать, что им доступно,
а что нет.
В рассуждениях о режиссуре Енгибаров часто повторял одну и ту же мысль — о
тождестве цирковой образности со сказкой. И тут и там, говорил он, все
однозначно, псе определенно, никаких полутонов: зло есть зло, добро — добро.
Как драматург и режиссер он прежде всего стремился отыскивать определяющую
черту в характере персонажей. «Я ищу, придерживаясь принципа классических
сказок. Что здесь может быть главным? Трусость? Жадность? Лень? Необыкновенная
ловкость? Чрезмерное самомнение? Чудовищная рассеянность? Застенчивость?
Нерасторопность ? Доброта ? Нашел эту определяющую черту — укрупни ее и
выстраивай на ней все действие».
Разрабатывая ту или иную тему, художник исходит из собственных эстетических
идеалов. Он отталкивается от субъективных впечатлений — симпатий и антипатий,
от своего миропонимания.
Как цирковой режиссер Енгибаров сформировался примерно к концу 60-х годов. Его
отличала способность находить свежие образные решения, современные по стилю и
яркие по форме; он научился ювелирно отделывать детали и придавать своим
миниатюрам силу эмоционального воздействия.
Енгибаров следовал избранному им правилу — минимум реквизита. В отличие от
многих коллег но профессии он не пользовался крупным самоигральным реквизитом,
не заказывал искусным мастерам всевозможные сундуки и ящики с хитроумными
пружинами, трюковые взрывающиеся автомашины, огромные «бытовые комбайны»,
рассчитанные на смех зрителей. Он предпочитал пользоваться, по его выражению,
«подручными вещами»: метлой, тарелкой, микрофоном, отрезком веревки. Между
прочим, того же принципа придерживались и его любимые клоуны Хасан Мусин и
Алексей Сергеев; они умели «выжать» из простого стула, милицейского свистка,
шамбарьера раскаты дружного смеха. Прибегая к подручным предметам, говорил
Енгибаров, клоун создает у зрителей иллюзию, будто веселое действие
сымпровизировано сию минуту. Никому и в голову не приходит, что все это заранее
придумано, тщательно отрепетировано, полное впечатление — все получилось само
собой, все вылилось из клоунского беззаботного дурачества.
Создаваемое на манеже Енгибаровым-режиссером неотделимо от творческой
деятельности Енгибарова- исполнителя, а это в свою очередь неотъемлемо от
работы Енгибарова литератора. Все три дарования произрастали из единого корня и
ветвились на едином стволе, полном творческих и жизненных сил.
Репертуар
Основную роль
в создании репертуара
играла и играют
сама клоуны.
Г. С. Венецианов
Оригинальные зрелищные формы появляются в цирковом искусстве благодаря
творческим усилиям истинных талантов. Немало новых приемов, средств
выразительности, комических трюков привнес в клоунаду Леонид Енгибаров. Поиск
новизны был главной целью его жизни на манеже. «Работа над репертуаром,—
записал он в дневнике,— для меня постоянная, ежедневная, ежечасная».
Репертуар артиста — это главным образом пантомимические сюжетные интермедии,
построенные на материале какого-либо из цирковых жанров: акробатики, эквилибра,
жонглирования. Едва ли не все его интермедии держатся на цирковом трюке, но
актерски сыгранном трюке.
Что это такое? Позволю себе немного порассуждать. Понятие «цирковой трюк» имеет
множество значений. Если в дрессировке, наездничестве, иллюзии — словом, в
любом жанре цирка основная функция трюка — удивлять, то в клоунаде — смешить.
Условимся называть трюки этого рода комическими, или сокращенно, как теперь
принято в среде профессионалов,— КТ, комический трюк.
КТ — смеховая единица клоунского выступления, а также любого комического
номера. Эмоциональный эффект КТ строится на визуальном (зрительном) восприятии.
Благодаря действию фактора неожиданности КТ усиливает комизм ситуации.
(Аналогичную смеховую единицу в кинокомедии принято называть гэгом, в эстрадной
драматургии КУ — комический узел.)
Среди КТ, используемых в цирке, есть механические, в которых применяется
механика, подчас довольно сложная. К ним относятся ходули особой конструкции,
встав на которые, клоун вырастает метра этак на два, стол, неожиданно
разваливающийся в нужный момент сам по себе, словно бы по собственной
инициативе, оброненный на землю носовой платок, который по команде комика
мгновенно возвращается на свое место — в карман; галстук, который, будто дразня
своего хозяина, то и дело поднимается торчком; круглый стул па одной ножке,
каким пользуются пианисты, в самый патетический момент может взвиться вместе с
вдохновенным музыкантом на добрых три метра вверх... К слову заметить, этот
трюк исполнял выдающийся швейцарский клоун Грок, единственный из комических
актеров удостоенный в 20-е годы нашего столетия звания доктора философских
паук; Грок писал в своих мемуарах, что комические трюки лежат в основе всех его
номеров.
Телесные, или натренированные, трюки чаще всего исполняются без каких-либо
технических приспособлений. Материалом служит лишь тренированное тело артиста.
Этого рода комические трюки чаще основываются на акробатике. Сюда относятся
всевозможные каскады, иначе говоря, искусные падения или же затейливые
перекаты, смешные прыжки, выворачивания и различные складывания корпуса. К этой
же категории причислим и КТ с несложным реквизитом: листом бумаги, стулом,
шамбарьером.
Овладение иными каноническими трюками требовало долгих месяцев тренировок.
Назову к примеру «грабли». Д. С. Альперов, автор записок «На арене старого
цирка», рассказал автору этих строк, какого труда стоило его отцу
отрепетировать трюк с граблями. Теперь, пожалуй, лишь завсегдатаи цирка помнят,
как униформисты разравнивали опилки на манеже, сноровисто орудуя граблями. Ныне
на манеже нет опилок: все или почти все наши цирки вместо опилок покрыты слоем
резины. Клоуну Сергею Альперову надо было научиться, пробегая через манеж,
«нечаянно» наступить на зубья кем-то брошенных граблей, наступить с таким
расчетом, чтобы палка подскочила и ударила его но лбу. Так вот, тренировка
этого, не бог весть какого трюка заняла без малого год.
Различна эстетическая ценность трюков, неодинаково их смысловое наполнение, не
схож смеховой заряд. Одни способны вызвать взрыв хохота, другие — лишь улыбку.
Однако общее для всех трюков — роль одного из могучих средств выразительности в
художественной системе клоунады. Без трюков клоун вообще немыслим, и в
особенности клоун-мим.
Комический трюк по своей природе краток и динамичен. Затянутый во времени или
замедленный по ритму, он утрачивает смеховую силу. Надежнее всего срабатывает
трюк в контексте клоунады, при условии, если он точно в нее вписался, ибо не
раз бывало, что трюк, вставленный в начало сценки, слабо смешил, а перемещенный
в конец — вызывал взрыв хохота. Опытные комики хорошо знают, как важно, чтобы
зрители были «разогреты», иначе говоря, подготовлены к кульминации, приведены в
радостно- приподнятое настроение. С этой целью наторелые в своем деле актеры
дают сперва апробированные шутки. Но увы, психология зрительского восприятия
неодинакова. Существуют трюки, которые смешат лишь подготовленную публику, с
повышенной «юморочувствительностью».
При всей краткости комический трюк, так же как и любая пьеса, имеет экспозицию,
развитие и, наконец, разрешение; другими словами, финальный взрыв (иногда в
буквальном смысле), то есть смешную концовку, о которой профессионалы говорят:
«Трюк должен выстрелить». В момент неожиданного «выстрела» зрители испытывают
ощущение некоей встряски. Причем встряски приятного свойства, близкой к
всплеску радости, выражаемой смеховой разрядкой, в которой находит
удовлетворение присущее большинству людей чувство юмора. КТ способны
растормошить глубоко спрятанную в нашей душе ребячливость, возвратить нас в
детство с его беспечностью, жаждой повеселиться по любому поводу.
В построении КТ ведущая роль принадлежит «посылке», то есть логической
подготовке к смешному эффекту. (Иногда «посылку» называют мотивировкой.)
Посылкой в известной клоунаде Карандаша «Случай в парке» служило нечаянное
действие неуклюжего обывателя, опрокинувшего прекрасную статую. За «посылкой»
следует цепь неизбежных следствий — собственно комические трюки. Они
стремительно сменяют друг друга. Если бы кому-то пришло в голову составить
перечень КТ в этой сценке, то он наверняка насчитал бы их не менее тридцати —
больших и малых.
Как ни велико многообразие форм КТ, клоуны предпочитают оперировать знакомыми
жизненно- бытовыми предметами. Чаще всего это бутылка, стул, кобура револьвера,
колесо, очки, цветы, тросточка, телефонная трубка и тому подобное. И вот эти
обычные, повседневные предметы с помощью фантазии клоуна приобретают новое,
неожиданное качество — способность вызывать смех. Давайте посмотрим, каким
образом из перечисленных только что аксессуаров высекается комический эффект.
Возьмем, к примеру, бутылку. Клоуны решили отметить день рождения своего друга
— инспектора манежа. По этому поводу откупорено игристое шампанское. Но... о,
ужас! Струя из горлышка бутылки ударила чуть ли не под самый купол. И
безостановочно фонтанирует. Клоуны смущены. Первое, что пришло в голову,—
скорее прикрыть горлышко ладонью, но струя озорно «пронзила» руку и по-прежнему
хлещет и хлещет... Тогда на помощь ринулся второй клоун: плотно прижал свои
ладони к ладоням партнера. Куда там! И их прошило насквозь... Нет, так у нас
ничего не выйдет, решили клоуны, поищем другой выход. Натянули на горлышко
шляпу. Помогло? Ничуть! Наконец, в панике рыжий сам уселся на горлышко бутылки.
Но струя, «пробив» бедолагу, начала фонтанировать уже из его головы... В финале
неожиданный поворот — партнер догадался перерезать струю, как нитку, огромными
ножницами. Эта, казалось бы, немудрящая сценка дает пять минут непрерывного
смеха. Еще один КТ с кобурой револьвера. Клоун, исполняющий в пантомиме роль
начальника полиции, в самый напряженный момент хватается за оружие. С
угрожающим видом, свирепо вращая белками глаз, он нервно отстегивает клапан
кобуры, но вместо ожидаемого всеми револьвера вытаскивает... носовой платок и
громко сморкается.
Существуют и другие бытовые предметы, из которых комики научились извлекать
смех. Например, липкая бумага (средство от мух}; с таким «приставучим» листом
талантливый комик способен рассмешить самых мрачных зрителей. Или, скажем,
кусок скользкого мыла, который никак не удержать в руках. Или ведро краски.
Рыжему- недотепе поручают подняться с ним на стремянку. Нетрудно представить
себе, в каком виде он спустится вниз и как будут выглядеть те, кто стоял под
лестницей и подавал советы.
В комических трюках предметы как бы одушевляются, им придается способность
действовать «разумно», в отличие от их владельцев. Сперва предметы
функционируют по своему прямому назначению, но затем происходит эксцентрический
сдвиг, нарушаются жизненные закономерности. И тогда платок «прыгает» в карман,
струя «пронзает» клоуна насквозь, скрипка «дерется», а рояль «стреляет».
Единого принципа действия КТ не существует. Смеховой эффект в каждом отдельном
случае достигается посредством того или иного приема, например, совмещения
несовместимого (носовой платок из револьверной кобуры) выбора средства,
непригодного для достижения цели. Такой прием использовал знаменитый Грок. Он
пытался починить продавленный стул, приклеить на место круглое сиденье. С этой
целью он облизывал языком его кромку, как это делают, запечатывая конверт с
письмом.
Один из наиболее частых мотивов КТ — вещь, используемая не по назначению.
Популярный клоун Борис Вяткин выводил на манеж собачку Манюню на поводке,
сделанном... из корабельного каната. Зрителей забавлял такой алогизм: канат,
способный удержать огромный корабль, использован для выгуливания маленькой
собачонки.
Многие комические трюки воздействуют на зрителей тем, что в них привычная
логика поступка взрослого человека заменяется логикой ребенка, впервые
сталкивающегося с незнакомыми жизненными явлениями. Существует немало смешных
трюков, построенных на приеме, который условно можно назвать «мнимая
трудность». В его основе — обман зрителя. Этим приемом часто пользовался
Карандаш в начале своего творческого пути и проделывал это с актерским блеском.
Он же любил прием, который принято называть: «с серьезным видом совершать
нелепые поступки». Безусловно, многие помнят, как этот клоун с необыкновенной
сосредоточенностью демонстрировал глубокую тарелку сперва левой половине цирка,
затем — правой. После этой церемонии он разбивал ударом молотка тарелку и величаво
раскланивался во все стороны, словно после удачно выполненного смертельного
прыжка.
Откуда же берутся комические трюки, кто их придумывает? Иногда литераторы, но
чаще всего сами цирковые артисты. Но и в том и в другом случае изобретение КТ
находится в прямой связи с особым типом мышления — клоунским. Подавляющее
большинство канонизированных трюков утратило авторство, они переходят от
поколения к поколению. Среди творческих находок, вошедших в историю циркового
комизма, были поистине блистательные открытия, такие, к примеру, как бьющие пз
глаз «слезы» и поднимающиеся дыбом волосы — нехитрое приспособление, с помощью
которого стало возможным так впечатляюще ярко, визуально выражать
гиперболизированные чувства — предельное горе, страх, ужас, удивление.
Некоторые исследователи, занимающиеся проблемами эстетики, относят смешные
трюки к малоценным видам комизма, считают их элементарно-комическими, лишенными
общественного содержания. Да, надо признать, что большая часть КТ носит чисто
развлекательный характер. Это всего- навсего веселые шутки, забавные анекдоты в
действии. Их восприятие не требует умственных усилий и -эстетических оценок. И
вместе с тем беззаботный смех как одна из форм разрядки после напряженного
трудового дня, как стимулятор жизненных сил, как проявление чувства
жизнерадостности, присущее большинству люден, тоже имеет полное право на
существование наряду со смехом общественно значимым. «Упрекать шутку за то, что
она не несет в себе важного жизненного урока,— писал в газете «Правда» Игорь Ильинский,—
представляется мне величайшим ханжеством».
В профессиональной среде КТ классифицируются как «проходные» и «сюжетные».
Первые по своей краткости и по смеховому эффекту относятся к незначительным,
исполняемым как бы между прочим. Енгибаров называл их уменьшительно «трючками».
Вторые, развернутые во времени и по смысловому наполнению, служат фундаментом,
на котором выстраивается целое сюжетное антре. Через такого рода трюк — иногда
его называют центральным — выражается идея разыгрываемой клоунады.
Примером может послужить сатирически-буффонная сценка «Штапель», широко
исполнявшаяся в 50-е годы (автор Ю. Благов). Своим острием сценка была
направлена против бракоделов, выпускавших ткань, которая при стирке давала
сильную усадку. Для выполнения центрального трюка применялась некая по-клоунски
условная стиральная машина. Директор пошивочного ателье «Спокойной ночи»,
выпускающего пижамы из штапеля, попадает, разумеется, не по своей воле, в
стиральную машину, из которой его извлекают сильно «усевшим».
Используя КТ в качестве строительного материала, так сказать, кирпичей и
блоков, комик складывает из них веселую конструкцию своей интермедии или целого
аптре, как, скажем, в клоунаде «Случай в парке» Карандаша или в пантомимической
буффонаде «Автомобиль» Олега Попова, в сатирической сцепке «Шипы и розы» Ю.
Никулина и М. Шуйдина. Или в философской притче «Баланс на катушках» Леонида
Енгибарова, который ставил комические трюки во главу угла творчества клоуна.
Это ему принадлежит изречение: «Комик без смешного трюка — что плотник без
топора».
Забавные сценки без текста, густо нашпигованные КТ,. были известны еще в старой
Англии, где впервые артисты сумели «одухотворить грубое содержание трюка... Там
бессмысленный показ мускулов стал чем-то забавным, грустным, иногда трагичным.
Там гибкость, проворство, ловкость тела впервые задались целью вызвать смех,
страх, мечты — так, как это делает театр». Это сказал Эдмон Гонкур, автор
романа «Братья Земгано», серьезно изучавший историю цирка.
Что для нас важно в процитированных словах? Эстетическое обоснование природы
комического трюка, творчески преобразованного из элементарной демонстрации
мышечной натренированности в осмысленное зрелище, уподобленное по силе
эмоционального воздействия театру.
Подобную задачу ставил перед собой и Енгибаров: «трюк в руках клоуна всегда
должен быть осмыслен и органичен образу». И еще одно его высказывание:
«Комические трюки, при всей их условности, помогают раскрытию характера,
придают ему живые черты».
Для каждого циркового действия, будь то баланс на катушках, акробатика или
виртуозная езда на моноцикле (одноколесном велосипеде), артист неустанно искал,
по его собственному выражению, «ход». При этом он считал, что найти «ход», в
котором трюки не были бы «притянуты за уши», но естественно вливались в
содержание номера, совсем не просто. Однако напасть на удачный прием или «ход»
— этого еще мало. Требуется «каждую вещь насытить собой». И действительно, на
всем, что Енгибаров создавал, неизменно прочитывалась его человеческая и
актерская индивидуальность.
Репертуар Енгибарова — это серия интермедий, миниатюр и зарисовок с несколькими
уровнями значения. Первый уровень, объяснял он, чисто зрелищный. «Я называю его
«развлекательными курбетами». Воздействует этот уровень непосредственно на
эмоции зрителей. Второй уровень— ассоциативный. Он неоднозначен: в нем могут
быть внезапные сопоставления, намеки, контрапункты, художественные тонкости.
Воспринимается этот уровень лишь подготовленным зрителем. И наконец, третий
уровень — смысловой.
Рассмотрим клоунаду «Бокс». Эту комическую сценку Енгибаров подготовил еще в
пору своего становления, когда основной функцией клоуна он считал «давать
зрителям отдых... вызывать у людей хорошее настроение».
Структура «Бокса», взятого, по выражению самого артиста, «из международного
банка комических ценностей», оставалась той же самой, какую в давние времена
придали ей первые исполнители — английские комики-мимы. Поводом для создания
этой смешной сценки послужило решение властей Великобритании — родины
современного бокса — внедрить этот вид спорта в армии, на флоте, в полиции и у
пожарных, что сразу же привлекло к боксу внимание, вызвало всеобщий интерес.
Оглушительный успех пародийной сценки поощрил и других цирковых комиков — они
тоже надели кожаные перчатки. Антре «Бокс» вошло в репертуар клоунов мира, у
многих стало коронным номером. С манежа и подмостков театров-варьете оно
перекочевало на экран, переходя из одной кинокомедии в другую. Однако всюду
эксплуатировалась одна и та же схема: партнеры для поединка подбирались по
контрасту — против настоящего спортсмена, обладателя мускулистой фигуры,
вынужден драться человек, случайно оказавшийся на ринге, «боксер поневоле». И
тем не менее победа обыкновенно доставалась по той или иной мотивировке именно
ему.
Со временем фабула этой клоунады обросла массой комедийных деталей. В
частности, активизировалась роль рефери, из персонажа эпизодического, с чисто
служебной функцией, он в иных случаях становился третьим партнером. В пылу
потасовки добрая половина звонких затрещин как бы ненароком доставалась ему.
Енгибарову, бывшему боксеру, который, поступая в цирковое училище, разыграл
перед приемной комиссией этюд «На ринге», как говорится, сам бог велел
подхватить эту выигрышную клоунаду. Тем более что его щуплая фигура в качестве
антипода рослому спортсмену как нельзя более способствовала комическому
эффекту.
Хотя клоунаде сопутствовал устойчивый успех, со временем какой-то червь
недовольства стал точить исполнителя. Развлекательный характер сценки уже не
устраивал взыскательного мастера. Нет, никто не упрекал его за то, что он
придерживается традиционной схемы, напротив, друзья даже хвалили за смешные
детали, привнесенные в классическое содержание. Так что отказываться от этого
веселого антре, которое столь органично пришлось к его комедийной
индивидуальности, он не собирался. Но и мириться с тем, что эта вещь не
выходила за рамки бездумной потехи, тоже не мог. Ведь он сам выработал для себя
принцип: «Каждой интермедии — свой образ».
Интуиция подсказывала: клоунаде можно дать другое истолкование, свое,
оригинальное. Но какое именно? В какую образную форму заключить? Размышлять,
взвешивать, прикидывать и так и этак, докапываться до корня всегда было
свойственно этому ищущему артисту. «Бокса стал предметом долгих и напряженных поисков,
приведших в конце концов к счастливой находке, которая сообщила пустой
сценке-психологический поворот. Как потом оказалось, эта находка имела огромное
значение для творческой судьбы Енгибарова.
Новый вариант «Бокса», о котором впоследствии будет так много написано, был
придуман артистом в один из приездов в Ереван. Восторженный прием зрителей
неизменно отзывался творческим вдохновением. А вдохновение, по известному слову
Белинского, «есть внезапное проникновение в истину». Так, собственно говоря, и
произошло. В один из вечеров, когда актер был в ударе и особенно удачно
импровизировал, ему и пришла в голову мысль... Впрочем, правильней было бы
сказать, что мысль ярчайшей вспышкой озарила тот самый цветок, который, как
вспоминал сам актер, «счастливо расставил все по своим местам».
Цветок этот — алую розу — бросала в манеж молодая красивая зрительница из
первого ряда, бросала в самый критический момент поединка, в знак поощрения. И
этот жест тотчас сообщал всему действию другой смысловой поворот, который в
корне изменил композицию клоунады, характер конфликта, линию актерского
взаимодействия и даже эмоциональные реакции. Цветок сыграл роль художественного
приема, известного комедиографам с незапамятных времен, хорошо разработанного,
имеющего десятки различных вариантов. Прием этот был использован во многих
пьесах, киносценариях, скетчах и получил наименование «любовный допинг». В
качестве «любовного допинга» может предстать платок, письмо, записка, медальон,
нотариальный документ (скажем, завещание) и даже ручка от зонтика. В популярной
в 20-е годы кинокомедии «Бабушкин внучек» известный комик Гарольд Ллойд играл
застенчивого и трусливого клерка и совершал посредством упомянутой ручки чудеса
храбрости. А все потому, что бабушка, хитрая старушка, чтобы избавить внука от
болезненной робости, придумала историю о якобы магической силе зонтичной ручки;
кто владеет этим талисманом, внушала она своему любимчику, тот обретает
способность побеждать любых врагов. И юноша поверил бабушкиной сказке. И стал
неодолим.
Итак, «Бокс» получил новую редакцию. Посмотрим, как это отразилось на
содержании клоунады. Общий рисунок антре оставался прежним: против атлетически
сложенного боксера выступал щуплый паренек. Этот наивный малый не только не
знаком с правилами боксерского поединка, но и перчатки-то видел впервые,
принимал их за новомодную обувь и пытался напялить себе на ноги...
Силы противников в поединке были столь неравны, что воскрешали в памяти миф о
Давиде и Голиафе. Новоявленный Голиаф холодно-высокомерен; его не смущает, что
перед ним не боксер, а так, недоразумение какое-то...
Методично, с ледяным спокойствием расправлялся он с немощным Давидом, который
уже еле-еле держался на своих удивительно тонких ногах, еще секунда-другая, и
бедняга будет повергнут в нокаут.
Вот тут-то и происходило непредвиденное. Миловидная зрительница бросала розу,
которую замечали оба соперника. Но кому из них предназначен этот знак внимания?
Во всех рецензиях почему-то говорится одно и то же: «Девушка бросает цветок
коверному». Но коверному ли?—вот вопрос. А может, все-таки атлету? Женщины
издревле предпочитают победителей...
Но клоунада есть клоунада, а простак на то и простак, чтобы все принимать на
свой счет. Он даже и секунды не сомневался, что прелестный дар предназначен
именно ему, и конечно же, со значением. Какое счастье! Наконец-то он удостоился
внимания девушки, да еще такой красивой!.. Сбылись давние мечты неудачника о
прекрасной любви. Он забыл обо всем на свете, и о своем противнике, и о
сражении. Вот он уже уселся на барьер и нежно смотрит на ту, которая бросила
цветок...
Своего героя, действующего в этой клоунаде, Енгибаров назвал влюбчивым
романтиком. Он из тех, говорил Енгибаров, кто всегда настроен на лирическую
волну, в ком кровь горяча, кто «чувствовать спешит». «Эй, боксер! Ты что это
позволяешь себе! Почему дезертировал с поля боя? — как бы говорит инспектор
манежа в роли арбитра.— А ну, марш на место!» С этого момента действие
развивается экспрессивно. Вздыхателя приволакивают на ринг, и снова на него
обрушивается град ударов. Торжествующий Голиаф гарцует вокруг своей жертвы. Но
вот на глаза ему попадается цветок, и он походя, с пренебрежением отшвыривает
его ногой.
Как?! Цветок — ногой! Ее цветок! Вы видели это? — вопрошающе глядит на арбитра
поначалу растерянные юноша. И тут происходит феноменальная передача мимикой
целой гаммы сложных внутренних переживаний. На выразительном лице актера
прочитывается чувстве глубочайшего оскорбления, оно сменяется вспышкой
негодования, переходящего в мстительную вулканическую ярость. Ну, держись!
Словно раненый лев, бросается он на обидчика. Остановись, безумный! Куда тебя
понесло! Да ведь сейчас от тебя, несчастного, лишь мокрое место
останется!—думают сердобольные зрители. Не спешите. Вы просто позабыли, что
такое любовь.
Любовь способна творить чудеса, некрасивого делать прекрасным, робкого —
отважным. Поглядите на манеж: какой натиск, сколько ловкости, как точен и силен
«хук» у того, кто еще минуту назад был беспомощным размазней. Откуда что
взялось...
Но вот наконец последний, завершающий удар с разбега двумя ногами прямо в
голиафову грудь. Противник в нокауте. Полная победа. И не суть важно, что не но
правилам. Арбитр поднимает руку победителя, который почти не держится на
подламывающихся ногах-спичках.
Смеха в этой по-волшебному преобразившейся клоунаде не убавилось, но теперь он
получил иную смысловую окраску: стал смехом доброго сочувствия, очищающим
смехом, обрел, если воспользоваться выражением Корнея Чуковского, «щемящую
музыку чувств». Осуществилась мечта актера: «сделать «Бокс» смешным и
драматичным одновременно».
Клоуны советского цирка и раньше пробовали обращаться к синтезу комического и
драматического. Так, в частности, известный дуэт Ротмистров — Бугров в 30-е
годы разыгрывал классическое антре «Дуэль» («Промахнулся») именно в этом ключе.
Содержание клоунады заключалось в том, что между белым клоуном и рыжим
вспыхивала ссора, разрешить которую могла только дуэль. Согласно ее правилам,
тот, кто вытянет записку со словом «смерть», отправляется на конюшню и пускает
себе пулю в лоб. Роковая записка доставалась рыжему. Клоун показывал сложную
гамму переживаний: от ужаса, когда вдруг он осознавал весь трагизм своего
положения, и до того момента, когда обрел решимость. Перед смертью рыжему
позволяли исполнить последнее желание. Он садился за рояль и мастерски
импровизировал какую-то печальную мелодию. (Нет нужды рассказывать финал
клоунады, само собой разумеется, что завершалась она весело.) Сопоставление
«Дуэли» и «Бокса», при том что акценты в них распределялись по-разному, вполне
правомерно.
Наблюдательные художники давно уже подметили тонкую психологическую взаимосвязь
между комическим и трагическим, которая существует в замысловатом переплетении
жизненной повседневности, подметили и то, что публика от забавного персонажа,
от комика принимает грустное гораздо острее, нежели от обычного актера. Таким
чудодейственным эффектом пользовался еще знаменитый мим Дебюро, современник
Бальзака и Гейне.
Он исторгал у публики и смех и слезы. Бессмертный Чарли Чаплин умел вызывать в
любом зрительном зале взрывы гомерического хохота и спазмы рыданий. Замечу,
кстати, что его любимым писателем был А. П. Чехов, художественный гений
которого тоже органично сплавлял смешное и грустное. Известно, что Антон
Павлович любил цирк и клоунов, его литературное наследие насчитывает немало
шедевров, посвященных этой теме. Своему пристрастию он оставался верен и во
время путешествия по странам Запада. Как свидетельствует современник: «Его
везде интересовали — кладбища и цирк с его клоунами, в которых он видел
настоящих комиков. Это как бы определило два свойства его таланта — грустное и
комическое, печаль и юмор, слезы и смех и над окружающим и над собой».
В творчестве Енгибарова так же слились воедино эти полюсные качества, которые
он как бы позаимствовал от двух традиционных масок Арлекина и Пьеро, веселую
проказливость первого и грусть второго.
Чувство грусти импонировало ему как художнику, ибо являлось частицей его души.
Своим эстрадным вечерам пантомимы он не случайно дал название — «О смешном и грустном».
Элегическими мотивами пронизаны и многие его литературные новеллы.
Эту особенность дарования актера тонко уловил чешский журналист, назвав в своей
рецензии гостя из Москвы «клоуном с осенью в сердце». А эпитет-то как
припечатался.
«Многим кажется, что мой герой печален,— говорил мне Енгибаров,— он не печален,
просто временами он грустит, ведь постоянно весел лишь тот, кто не очень умен.
Как у всякого живого человека, у него бывают свои неудачи, свои неполадки. И
потому случается, что ему взгрустнется... Но так как эта эмоция на манеже
необычна, то она бросается в глаза».
Такая художественная направленность придавала юмору Енгибарова подчас минорную
интонацию. На этот счет у него была своя концепция. Юмор, говорил он, имеет
множество оттенков, которые принято выражать соответствующими эпитетами,
например, тонкий юмор, язвительный, но бывает юмор чеховский — с грустинкой.
Вероятно, возможен эпитет— «трогательный" или «печальный» юмор.
Он любил рассказывать друзьям притчу о рождении юмора. В дремучем лесу
заблудились двое, и каждый по отдельности безуспешно пытался выбраться из
чащобы. Надвинулась ночь. Они уже отчаялись найти дорогу. И вдруг случайно
встретились — это были Горе и Радость. Общая беда сблизила их. И от этого
брачного союза появилось дитя любви — Юмор. Вот и выходит, что в жилах
радостного юмора течет частичка горестной крови.
Сейчас клоунские сценки с грустинкой утвердились на арене. Многочисленные
подражатели, увлекаемые примером большого таланта, сделали этот вид циркового
.комизма модным.
Но вернемся к «Боксу». «Любовный допинг» произвел пере акцентировку всей
композиции клоунады и вывел ее па другой уровень сценического существования. В
результате этого видоизменились сама структура сценки, се жанровая форма,
характер героя, строй конфликта, ритм, зрительское восприятие.
С того момента, когда миловидная зрительница бросила в манеж алую розу,
развитие сюжета переводилось в новую смысловую категорию. Только что действие
носило бытовой, сниженный характер, по вот появился цветок — лирический знак
поощрения, и события приобретали другую окраску. Минуту-другую назад перед нами
был жалкий беззащитный неудачник, покорно принимающий удары и обиды. Цветок —
символ надежды и нежности, ободряющее послание прелестной зрительницы,— выявлял
скрытые ресурсы души героя, делал его волевым и активным, отважным и
непобедимым. Происходило нравственное одоление героем самого себя., осознание
своего человеческого достоинства н своего права на любовь, на место под
солнцем. Поверженным оказалось самодовольное хамство, нокаутированы тупое
зазнайство и непробиваемая грубость.
Одоление самого себя, к слову заметить,— одна из труднейших
нравственно-философских задач. Решал ее артист не только в творчестве, но и в
жизни. Любопытное признание находим в его автобиографии: «Человек обязательно
победит злое начало и в этом мире, и в самом себе». Исповедальные слова
Енгибарова о победе над самим собой важны для постижения его этических
устремлений, которые вполне естественно отражались и на его творчестве.
Допинг углубил психологическую обрисовку образа Лёни, обосновал логику его
поступков, раскрыл нравственный аспект конфликта, а в конечном итоге
способствовал взаимопроникновению комической стихии и романтики, буффонады и
лирики, открытого драматизма и философских раздумий. Вследствие этого «Бокс»
зазвучал стереофонично. В грубую балаганную сценку Енгибаров вдохнул
поэтическую душу.
В этой омоложенной буффонаде совместилось два стилевых пласта, пронизывающих
друг друга и образующих в итоге неразрывное единство. Поверхностный пласт
уходит корнями в седую старину, единственная цель его — вызвать смех. Глубинный
пласт сообщал содержанию новое наполнение, интересное современному зрителю, он
поднимал серьезные вопросы морали, позволял актеру выразить в образной форме свое
мировоззрение, свои эстетические принципы.
Старинное антре в енгибаровском прочтении получило изящную образную форму,
глубокую мысль, масштабность и, наконец, огромное эмоциональное воздействие.
Изменился и характер конфликта. Из одномерного он превратился в многомерный.
События обрели внутренний драматизм — теперь это была не просто смешная
потасовка, а острое столкновение полярных нравственных критериев. Культу силы
противопоставлялось чувство собственного достоинства, безнравственности —
моральные убеждения. Енгибаровское истолкование «Бокса» выводило конфликт на
более высокую ступень: из сферы частного, житейски-бытового случая в сферу
художественного обобщения.
Без назиданий и дидактики, в убедительной образной форме внушалась серьезная и
актуальная мысль о победе доброты над душевной черствостью и жестокостью. В
этом поединке верх одержала не грубая сила, а стойкость духа, рыцарство в
высоком понимании этого слова — такой вывод для себя делали зрители.
Тема превосходства духовного над бездуховным, морального над физической силой
остро занимала и Енгибарова-клоуна, и Енгибарова-литератора. В миниатюре
«Вальс», написанной вскоре после триумфа в Праге, он рассказал о боксерском
поединке, в котором тщательно продуманная тактика боя и высокое техническое
мастерство боксера-интеллигента одерживают верх над самоуверенностью и мощью
мускулатуры того, кто поэта Поля Элюара принимает за короля кожаной перчатки.
Претерпели изменение и жанровые признаки «Бокса». Если в классическом варианте
эту клоунаду принято? рассматривать как буффонадное антре в чистом виде, то
енгибаровская трактовка уже не вмещалась в это определение. Пожалуй, наиболее
точно сформулировал вновь обретенную жанровую принадлежность «Бокса» сам
артист— лирическая буффонада.
Енгибаров значительно обновил средства выразительности в этой клоунаде, ввел
свежие приемы комизма, в частности «любовный допинг». Седой ветеран буффонады
«Бокс» обрел вторую молодость, получил поэтическое освещение. И что
примечательно — теперь уже все комики повсеместно стали исполнять это антре в
енгибаровском варианте.
Верный своему творческому принципу — совершенствовать созданные им номера —
Енгибаров намеревался обострить эмоциональное воздействие фрагмента с розой с
помощью цветовых и световых эффектов. В тот момент, когда в душе романтически
настроенного юноши внезапно вспыхивала любовь, по всему цирку должны были
закружиться в живописном хороводе разноцветные блики-круги и одновременно тихо
зазвучать нежная мелодия. Актер хорошо осознавал, какой вес эта клоунада получила
в его репертуаре, каким резким контуром очертила характер его героя Лени, и
потому намеревался сделать алую розу своей эмблемой.
«Я буду неразлучен с ней,— вдохновенно рассказывал он.— Мне необходимо все
время чувствовать ее присутствие. А оставлять дорогой цветок буду лишь на те
минуты, когда предстоит выполнить сложный трюк. Я бережно поставлю его в
хрустальную вазочку с водой, и он неизменно будет находиться тут же, в манеже.
Закончил упражнение — роза опять в моих руках. Я обращаюсь к ней, как к живому
и дорогому существу, советуюсь, вдохновляюсь, глядя на нее. Короче говоря,
придумано множество игровых моментов».
По мысли Енгибарова, зрители в течение вечера должны привыкнуть к тому, что он
неотделим от алой розы. Потом они могут забыть фамилию артиста, говорил он, но
всегда будут помнить «клоуна с алой розой в руках».
Итак, победа хилого юноши над силачом стала смысловым итогом клоунады, ее
нравственным уроком. Победа эта имела огромное значение и для самого актера,
ибо наметила в его художественной ориентации новую, лирическую линию,
сдобренную комизмом. Наиболее полно эти качества проявятся в клоунаде «Статуя».
По мере того как росло мастерство Енгибарова- коверного, его все более и более
привлекали антре, построенные в эстетике народно-площадного театра. Енгибаров
считал, что старинные клоунады не утратили «своего чарующего волшебства и в
наши дни». Действительно, комический механизм этих вечно молодых сценок
позволяет без осечки выпускать смеховые заряды, О том, что мировое искусство
клоунады замешено на приемах комедии масок и народных карнавалов, сказано
много, и нет, полагаю, нужды повторяться. Достаточно перечитать сценарии
комедии дель-арте, записанные Б. Локателли еще в 1622 году, и сопоставить их с
либретто классических клоунских антре, чтобы увидеть, как много здесь общего.
У «Статуи» долгая-предолгая сценическая жизнь. Эта клоунада потешала публику
еще в XVI веке на площадных подмостках. Она знавала периоды забвения и
возрождения. В следующем столетии, когда во всем мире распространилась мода на
куклы-автоматы, создаваемые искусными механиками, клоуны вспомнили о старинной
сценке, но теперь ее подавали в виде механической куклы.
Существует несколько вариантов антре «Статуя». Лучшая из них, на мой взгляд,
«Римский воин». Сюжет ее прост. Белому клоуну прислали в подарок заводную
куклу-воина в человеческий рост. «Ой, как здорово! — восторгается рыжий.— А как
она действует? Вот бы завести ее». Обладатель подарка уходит за ключом, а
своему недотепистому партнеру строго-настрого наказывает: «К воину не
прикасаться!» Не прикасаться! Как бы не так! Рыжему, этому любопытному
взрослому ребенку, известное дело, не терпится позабавиться невиданной
игрушкой. Робко, не без страха, приблизился он к таинственной фигуре, осторожно
коснулся. Фу-у-у! — ничего опасного. Осмелел. Интересно, а что внутри? И вдруг
— бух-трах- тарарах! Кукла рассыпалась, раскатились шестерни, вывалились
пружины... Что же делать, как быть? За порчу дорогой вещи по головке не
погладят... Словно мальчишка, который нашкодил и хочет замести следы, рыжий
решает подменить куклу собой. Его поспешное облачение в грохочущие
металлические доспехи вызывает хохот, у недотепы все выходит
шиворот-навыворот... А тут еще путается под руками меч, на острие которого он
все время натыкается... Комический эффект стимулируется условиями игры —
страшной гонкой. Надо торопиться: из-за кулис уже доносится голос партнера и
звук его шагов. Это блестящий повод для новых и новых смешных импровизаций. Но
вот появляется хозяин «Римского воина». Плут застывает как каменный. Возникает
еще больший простор для уморительных фортелей: то назойливая муха ползет по
лицу, то нападает чих, то меч оказывается не на месте и нужно его незаметно
поправить, то чешется спина... Но едва только белый взглянет па него, тот вновь
мгновенно застывает. (Фабулу этой сценки не раз использовали в различных
вариантах, кроме клоунов, еще и кинокомики: Чарли Чаплин, Макс Линдер, Монти
Бенкс, Пат и Паташон.)
При всей наивной простоте это почтенного возраста антре до сих пор сохраняет колоссальную
смеховую силу. За годы существования оно вобрало в себя массу потешных трюков;
каждый даровитый смехотвор опускал в эту копилку свою монетку. Мне случалось
видеть «Статую» в самом различном исполнении. Всякий раз я замечал, что даже
при скудной комедийной технике зрители безудержно веселились и простодушно
хохотали.
В 50-х годах одну из версий «Статуи» привозил к нам Венгерский цирк; в его
варианте на скамью возле рыжего, притворившегося статуей, подсаживались двое
туристов — Он и Она. Комизм в этой клоунаде был элементарным, он держался на
том, что «статуя» нагловато приставала к даме, а та, полагая, что вольничает ее
кавалер, влепляла ему пощечину. Кавалер угощал свою спутницу вишней, а рыжий
бесцеремонно запускал руку в кулек. И далее в том же роде. Впрочем, во всех
версиях единственной целью «Статуи» было развлекать.
Не ради бездумного смеха обратился Енгибаров к этой буффонаде. Он намеревался
воспользоваться ее доходчивой формой для другой цели: прочитать старинное антре
глазами современного человека. Ведь образные средства цирка, как и вообще
искусства, не есть что-то неизменное, застывшее, время непрестанно вносит в них
свои коррективы. Нередко ресурсы выразительности пополняются за счет
возрождения прочно забытого, но возрождения в обновленном виде.
Решение воспользоваться этой популярной клоунадой Енгибаров определил так: «Я
вернул ее на манеж не потому, что не имел в запасе новых интересных выдумок, и
не ради того, чтобы отдать дань уважения нашей классике, нет, все обстоит
проще: «Бокс» и «Статуя» давали мне повод для самовыражения. Через них я мог
ярче высказать то, что беспокоит сегодня меня и моих современников».
Старый клоун Г. Г. Быстров рассказал мне, что это смешное антре Енгибаров
впервые увидел в исполнении клоунской группы под его, Быстрова, руководством.
«Было это в Ереванском цирке; мы заканчивали свои гастроли и для прощальных
«Вечеров смеха» готовили, среди прочего, «Статую». А Леня как раз в это время
приехал сюда. Увидел нашу репетицию и загорелся: «Вы не против, Георгий Георгиевич,
я бы тоже хотел сделать эту сценку?» Я сказал: «Пожалуйста. Антре-то ведь
ничье, общего пользования». Когда спустя полгода мы встретились снова — батюшки
мои! — не узнать «Статую». Прямо поразился: столько веков ее исполняли, а ни
одному клоуну не пришло в голову дать ей такой поворот. Фактически Леня оставил
только схему: рыжий превратился и статую. А все прочее — другое. Интересное,
умное».
Да, Енгибаров, выражаясь высоким штилем, смахнул со а Статуи» пыль веков и
повернул ее к зрителям новой стороной. Но произошло это, разумеется, не вдруг.
Привлеченный самой ситуацией, которая несла в себе такое сильное комическое
начало, актер чувствовал все же, что одним смехом емкость сценки не
исчерпывается, здесь может быть второй, глубинный план. Но какой?
Толчком, сообщившим движение мыслям, была, вспоминал Енгибаров, фраза,
оброненная вскользь его другом Василием Шукшиным (разговор велся вокруг
сценария о Степане Разине, над которым в то время работал знаменитый
кинорежиссер и писатель). «Реставрировать старое,— сказал Василий Макарович,—
имеет смысл лишь в том случае, если оно будет интересно человеку сегодняшнего
дня...».
Истинный художник, в какой бы области он ни творил, используя накопленное
предшественниками, обязательно присоединяет к этому богатству и что-то свое —
свои находки, свои подробности, свое видение. После долгих раздумий и прикидок
Енгибаров нашел нужное решение. Исходной посылкой своего прочтения «Статуи» он
сделал доброту, трактуя, однако, это понятие шире, чем только добрый поступок,
он рассматривал доброту как нравственную устремленность, как гуманистическую
позицию.
Доброта стала главной темой этой клоунады,
Енгибаровская версия сюжета «Статуи» по эстетическим признакам близка миниатюре
Олега Попова «Луч». Оба лирических героя духовно богаты, сердечны и
бескорыстны. Но персонаж Попова добр к природе — к солнечному зайчику, а
персонаж Енгибарова — к людям: он делает добро тем, кто нанес ему жгучую обиду.
Сценка выстроилась следующим образом. Герой, клоун Леня, влюблен в девушку, но
она предпочла ему другого и пришла в парк, к месту их прошлых свиданий,— о,
вероломная! — с новым избранником. Отвергнутый поклонник, привлеченный сюда
воспоминаниями о былом счастье, оказался свидетелем чужой встречи.
Смущенный этим обстоятельством, бедняга, чтобы не помешать парочке, не нашел
ничего другого, как поспешно превратиться в парковую статую. А те двое так
увлечены друг другом, или, как написано в либретто, «ослеплены любовью», что
даже и не заметили этой наивной мистификации.
Чувство Лени к девушке было столь чистым и верным, что, движимый преданностью к
ней, он вдруг начал наивно помогать этому свиданию. В своем благородном
стремлении простак выглядел забавным и одновременно трогательным. Однако
избранник девушки был явно сомнительных достоинств. Развязный хлыщ позволял
себе, как говорится, вольности. «Они присаживаются,— читаем в либретто,— на
скамью под статуей. Парень хочет обнять девушку, но мешает сумочка в ее руках.
Смотрит, куда бы повесить эту обузу, и вдруг к его услугам «крючок»...
Хорошо помню, каким неописуемым комическим движением статуя любезно подставляла
согнутый палец — вешайте, пожалуйста! Повесил бы — да никак не дотянуться. И
тогда крючок сам опускался ниже и подцеплял сумочку... Этот несет статуи всегда
вызывал взрыв хохота.
Далее распаленный ухажер, этот тип в кургузом пиджачке и кепке, надвинутой на
глаза, доставал папиросу и нетерпеливо шарил по карманам, ища спички. Фу, черт!
— нету... Не огорчайтесь — вот вам огонек. Статуя услужливо подносила ему
зажигалку. Такое простодушие вызывало у зрителей новый взрыв смеха и в то же
время удивление. И в самом деле вздор какой-то: человеку изменили, предали его,
а он платит добром за зло.
Парочка целуется. Какая пытка! И несчастный Леня не в силах сдержать слез,
которые, как и положено в клоунаде, полились из глаз статуи в два ручья. А
влюбленные приняли их за мимолетный дождичек. И тотчас над ними заботливо
раскрылся Ленин зонтик.
Постепенно, несмотря на комизм ситуации, зрители проникались сочувствием к
этому чудаку, сопереживали ему. Рядом с таким человеком и самому хотелось быть
добрее и отзывчивей. Актер словно бы говорил нам: в душе каждого человека есть
место для доброты, но мы не всегда об этом догадываемся.
Лаконично, всего несколькими штрихами Енгибаров набросал образ обаятельного
добряка, любовь которого выше эгоистической неприязни к сопернику. За
комическим балагурством просвечивала живая мысль нашего современника, человека
душевно щедрого, нравственно красивого.
Эта тема, если взглянуть шире, живет в контексте всей русской литературы. И в
самом деле, не близок ли енгибаровский герой образам Достоевского, таким, как
Макар Девушкин из «Бедных людей», или Аркадий Долгоруков из «Подростка», или
князь Мышкин из романа «Идиот». В одной из наших бесед Енгибаров высказал
удивительную мысль — воплотить черты князя Мышкина в клоунском персонаже. «Но с
тою лишь разницей, что герой Достоевского,— говорил он,— фигура трагическая, а
мой — по внутренней сути трагикомичен. Основное же у них общее: оба болеют
душой за каждого человека, оба готовы откликнуться на любой зов о помощи ».
Тонкую грань между трагическим и комическим подмечали многие художники. Вот,
например, Федор Иванович Шаляпин, работая над образом Дон Кихота в опере
Массне, охарактеризовал своего героя: «Такой честный, такой святой, что даже
смешной и потешный для всей ЭТОЙ СВОЛОЧИ»
Как потешные воспринимались поначалу и поступки Лени, замаскировавшегося
статуей.
Проблемы добра и зла не перестают волновать пас и сегодня. Актер театра и кино
Иннокентий Смоктуновский как-то посетовал, что «в современном мире люди
почему-то все более и более утрачивают простые человеческие привязанности и
чувства. На смену человеческим отношениям иной раз приходят исключительно
деловые отношения». А писатель Юрий Бондарев устами героя романа «Игра»,
режиссера Крымова, печется о человечности и сострадании, говорит о насущной
потребности сегодня чувствовать и понимать другого.
Но для этого, заключает он, должны родиться в мире тысячи терпеливых
проповедников.
Одним из них и был Енгибаров, артист, литератор и режиссер.
Своей забавной и одновременно трогательной сценкой он, в сущности говоря,
проповедовал сострадание в художественной форме, соответствующей жанру клоунады
— в комедийном ключе.
Не у Сарояна ли, книги которого открыл для себя в это время Енгибаров, брал он
уроки душевной тонкости? Впрочем, легко обнаруживается и более вероятное
влияние — традиция искусства русских клоунов, о своей органической связи с
которой не раз говорил Енгибаров. Эта гуманистическая традиция широко отражена
нашей классической литературой. Вспомним веселого лицедея Эдвардса, героя
«Гуттаперчевого мальчика». Пусть читателя не смущает его иностранное имя.
Эдвардс — псевдоним, дань моде, так было принято в дореволюционном цирке, а на
самом деле это какой-нибудь Иван Петрович Сидоров. Эдвардс, каким его описал Д,
Григорович,— золотой души человек; отзывчив и сердечен, он каждому желал добра.
Вспомним клоуна Жоржа из чеховской «Каштанки» или клоуна Пуркуа из другого,
менее известного рассказа Чехова «Глупый француз», вспомним купринского Менотти
или Тота, героя пьесы Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины а,— сколько
человеческого обаяния в их суждениях и поступках, как участливы, как добры они
к людям, к детям, к животным. «Юмор без сердца — холодный юмор» — так считал и
сам Енгибаров. Мысли о добром клоуне в последнее время были особенно близки
ему. «Злой комик вряд ли встретит отклик в человеческих сердцах».
Владимир Высоцкий в стихотворении, посвященном Леониду Енгибарову, выделил
главное в творческом облике грустного клоуна — его отзывчивость. Он «груз
чужого горя... считал своим», «тревоги наши и невзгоды он горстями выгребал из
нас...»
«Мы потом смеялись обалдело,
Хлопали, ладони раздробя,
Он смешного ничего не делал —
Горе наше брал он на себя».
Возвращаясь к «Статуе», отмечу, что комические краски в ней распределились не
так густо, как в «Боксе», по смеха и в этом антре было достаточно. Юмором, по
признанию Енгибарова, он спасался от сентиментальности. Играя «Статую», так
легко было впасть в слащавый тон, говорил он. Вот почему заботился лишь об
одном: не изменило бы чувство юмора. Развивая свою мысль, Енгибаров добавил,
что ему хотелось бы воздействовать на эмоции зрителей обаянием доброты, но
через улыбку.
Последовательный противник открытого морализирования, любой назидательности,
Енгибаров предпочитал, чтобы публика выводы делала сама. И его радовало, что
опросы зрителей подтвердили: интермедия именно так и прочитывалась. Вообще к
мнению публики и друзей он относился с повышенной чуткостью, но
руководствовался все же собственным вкусом.
Жанровая принадлежность «Статуи» рассматривалась критикой различно: смешная
сценка, фарсовая интермедия, лирическая новелла, миниатюра, комический скетч.
Но как бы рецензенты ни характеризовали ее жанр и стиль, не забудем, что прежде
всего — это клоунада. А клоунада — искусство условное. Условной в «Статуе» была
вся ситуация, условным было поведение девушки и ее дружка, которые по правилам
игры должны были принимать клоуна за статую. И такая условность, как утверждал
Енгибаров, для него гораздо ценнее любого «скопированного с жизни
правдоподобия».
Пропорции условного и реалистического имеют большое значение в клоунаде.
Енгибаров был наделен способностью тонко чувствовать эту пропорцию.
Анализируя режиссерскую работу, нельзя, однако, умолчать и о том, что не все в
ней было безупречным, как в «Боксе». Просчеты начинаются с самого либретто.
Завязка клоунады была так построена, что зрители далеко не сразу понимали
важную для последующего действия подробность, а именно: девушка, пришедшая в
парк с молодым человеком, и есть та самая, в которую влюблен наш герой. Поэтому
и зрительское восприятие поначалу было неточным. Публика — сколько я ни
наблюдал за ней — была уверена, что клоун принимал облик статуи, чтобы не вспугнуть
ненароком встретившихся влюбленных. В такой интерпретации клоунада лишалась
главного — конфликта.
В дальнейшем Енгибаров предполагал переработать эту часть. Замечу, между
прочим, что задача — сделать сразу же понятным для зрителей суть происходящего,
притом минимальными средствами, не так-то проста, Завязка клоунады - твердый
орешек для любого драматурга.
Неорганичен был и эпизод, когда Енгибаров, изображая статую, вначале подражал
известным парковым скульптурам: «Пограничник с собакой», «Ныряльщица», «Девушка
с веслом».
К неудачам следует отнести и бесцветную игру партнеров Енгибарова. Характеры
персонажей в их исполнении не были индивидуализированы, а лишь пунктирно
намечены. Столь условная ситуация, как в этой лирической буффонаде, не терпела наигрыша,
здесь требовалась большая внутренняя наполненность, искренние чувства, правда
переживаний.
«Статуя» и «Бокс», так же как и «Уличный акробат» и «Катушки» (речь о них
дальше) — стали вершиной творчества Леонида Енгибарова, заложившего фундамент
оригинальной разновидности клоунады — поэтической, настолько своеобразной и
яркой, что она стала значительным явлением в художественной жизни цирка,
породив немало последователей как в советском цирке, так и за рубежом.
Прыжковая акробатика не увлекала Енгибарова. Правда, он виртуозно исполнял
«ломаного человека», то есть серию темповых упражнений, основанных на
затейливых перекатах через грудь и спину как бы бескостного тела. «Коньком» его
были стойки на руках. Сделаться виртуозом по этой части — такую задачу поставил
он перед ": собой еще в училище. И потому тренировался с беспощадным
упорством. Тренировался в стенах училища и дополнительно — дома. В хорошую
погоду — во дворе, где соорудил специальную дощатую площадку, а в ненастье — в
комнате. Первые месяцы глаза затекали кровью, болела голова, нестерпимо ныли по
ночам распухшие кисти рук. Впрочем, на боль в кистях Енгибаров жаловался до
последних дней — слишком непосильную нагрузку на них давала его знаменитая
«горизонталка». Ко времени, когда он получил направление в Армянский цирковой
коллектив, Леонид уже уверенно стоял как на правой, так и на левой руке. И
очень гордился придуманным и отрепетированным трюком, который для себя окрестил
«горизонталкой». Выглядело это следующим образом. Стоя вниз головой на обеих
руках, акробат начинал медленно клонить ноги вбок — ниже, ниже... И вот одна
его нога коснулась согнутым коленом локтя руки, обрела точку опоры, твердо
оперлась о него и застыла в таком удивительном виде (вторая нога и вторая рука
в это время оставались вытянутыми в воздухе параллельно манежу). Зрителям было
ясно, насколько упражнение трудно, какой силовой отдачи требует, ведь стоять в
таком противоестественном положении человеку не свойственно, а он стоит, и
довольно долго, вопреки закону равновесия. Даже по цирковым меркам это был
достаточно сложный трюк.
Выступление на арене длится каких-нибудь пять-семь минут, а подготовительная
работа — годы. Много времени потратил Енгибаров, чтобы вытренировать свою
удивительную стойку, которую японские акробаты назвали «бланшем Енгибарова». Но
как этот бланш применить на манеже? Не подавать же его в чистом виде. И в
клоунаду не включишь, потому что «горизонталка» не содержит в себе даже намека
на юмористическое зерно. Складывалась неприятная ситуация: трюк нуждался в
ежедневных тренировках, иначе он выходил из строя, но практически долгое уже
время не использовался, оставаясь по сути балластом.
И все же счастливый день пришел. Не скажу, что случилось это неожиданно. Ведь
художник постоянно думает о своем замысле. И как часто бывает в творчестве,
решение зреет исподволь: накапливаются детали, подробности. И наступает светлый
миг озарения. Такое озарение принесла Енгибарову музыка — она не раз возбуждала
его фантазию.
Енгибаров очень любил Луи Армстронга. Игра этого замечательного музыканта
завораживала. В звуках его серебряной трубы, когда он исполнял «Сен-Луи блюз»,
слышалась жалоба на горькую долю, исповедь одинокой, исстрадавшейся души.
И в воображении молодого артиста по каким-то смутным ассоциациям возник почти
осязаемый образ уличного акробата-неудачника; этот малый столько раз в жизни
испытывал поражения, что совсем разуверился в себе. Вернее, «в нем убили веру в
успех». А между тем работал акробат виртуозно, трюки у него были прямо-таки
поразительные. Вот такую историю придумал Енгибаров. И она легла в основу
новеллы, которую он собирался рассказать языком первоклассных акробатических
упражнений и пантомимы под грустную мелодию. Енгибаров вспоминал: «Когда вся
подготовительная работа была завершена, попросил трубача из циркового оркестра
сыграть что-нибудь в стиле блюза.
— Блюзов много,— ответил тот,— какой именно? — Ну... что-нибудь из импровизаций
Армстронга, можно?»
Музыкант заиграл. Это было то, что нужно. Вечером Леонид вынес на манеж свой
новый номер.
...Свет в зале вырубался. Лишь узкий луч высвечивал небольшой пятачок, на
котором и разворачивалась
неторопливая печальная история бродячего акробата,
способного проделывать чудо-стойку — горизонтальную.
И хотя в этой безмолвной новелле не было прямых реалий выступления уличного
комедианта: ни традиционного коврика под мышкой, ни внешнего перевоплощения, ни
обычного в таких случаях обхода с шапкой воображаемых зрителей — все было
представлено условно, одними намеками, зрители тем не менее следили за
действием затаив дыхание. При этом каждый по-своему дорисовывал содержание
сценки. У меня, к примеру, она вызывала в памяти образы полотен Пикассо в его
парижский «Розовый период», когда знаменитый мастер предпочитал рисовать исключительно
персонажей цирка: гимнастов, клоунов, арлекинов, шутов — «тех, кто умел
смешить, в то время как в их собственной жизни веселого было мало...». За
удивительной стойкой- «горизонталкой» публике виделось нечто большее, чем
просто акробатическое упражнение.
В книге «Последний раунд» Енгибаров дал своему уникальному трюку такой
поэтически-философский комментарий: «Когда медленно отрываешь одну руку от
пола, то понимаешь, что у тебя на ладони лежит земной шар».
«Уличный акробат» — пример одухотворенного циркового мастерства, воплощенного в
яркой образной форме, приближающей это произведение арены к высокому искусству
театра. «Мне важно,— говорил Енгибаров,— создать у публики настроение». И
добивался цели в полной мере. Когда уличный артист, проделав серию
невообразимых трюков, убежденный в своем провале, грустно, с опущенной головой,
засунув руки в карманы, покидал условный двор, зрительный зал взрывался шквалом
аплодисментов. Этот необычный уход в замедленном ритме под печальную мелодию
вызывал какое-то щемящее чувство безнадежности...
В «Уличном акробате» впервые наметилась та линия сценического существования
енгибаровского героя, которую потом будут называть то грустной, то трагической.
А ведь еще недавно просто невозможно было увидеть в выступлении клоуна у ковра
несмешную интермедию. Сегодня же подобного рода номера, сопровождаемые грустной
лирической музыкой, в репертуаре клоунов воспринимаются как вполне обычные. Их
появилось даже чересчур много. Но когда Леонид впервые рискнул показать
«Уличного акробата» под пронзительно печальный блюз, то просто ошеломил.
Сначала коллеги по Армянскому коллективу отнеслись к этой сценке, как к
очередному промаху начинающего артиста. Критиковали ее и представители
художественной части главка и некоторые рецензенты. И только когда зрители
дружно и повсеместно одобрили «Уличного акробата» бурными аплодисментами, он
получил, как говорится, права гражданства.
В этой волнующей новелле гармонично воздействовали на эмоции зрителей такие
компоненты циркового искусства, как пластика, акробатика высшей сложности,
ритм, музыка, свет — и все это было сцементировано актерским мастерством,
правдой существования в предлагаемых обстоятельствах.
«Уличный акробат» — творческое открытие Леонида Енгибарова, принесшего в
искусство клоунады новое образное начало. Современные зрители почувствовали в
артисте не рядового ремесленника, набившего руку на смешных фортелях, а
своеобразного художника и незаурядную личность.
Влас Дорошевич, корифей дореволюционной журналистики, в качестве обязательного
условия успеха фельетона выдвигал остроумие мысли. И уточнял: остроумие не
слова, а мысли. Таким остроумием была отмечена еще одна работа Енгибарова—
«Катушки»,
Пути воплощения иных замыслов весьма извилисты. Эту интермедию Енгибаров
придумал для своих коллег но манежу— для эквилибристов. «Те отказались,
посчитав ее несмешной,— говорил он позднее.— Пришлось самому учиться
эквилибристике. Сейчас это одна из любимых интермедий в моем репертуаре».
Катушки как снаряд эквилибристики сравнительно молоды. В искусстве цирка,
казалось, все уже давным-давно открыто. Однако нет-нет да и блеснет манеж
какой-то новинкой. Так, в 1927 году бразильскому балансеру Васнесу пришла
счастливая мысль превратить геометрическое тело — к цилиндр» — в цирковой
снаряд. К слову заметить, удачная находка имела свою предысторию, уходящую
корнями в толщу веков. Известно, что многие цирковые жанры родились из трудовых
навыков: балансирование на вольностоящих лестницах перенято у сборщиков хмеля,
работу на першах средневековые бродячие артисты подсмотрели на полях сражений
(в некоторых армиях возили с собой длинные шесты с целью осмотра округи).
Подкидные доски пришли на манеж из народных игрищ. У славян одним из любимых
летних развлечений испокон века было «скакание на доске», положенной на
возвышающийся рычаг.
Валики-катушки издавна применяли индийские ремесленники для разглаживания
материи. Происходило это таким образом: окрашенное полотнище расстилали на
полу, а сверху помещали деревянный каток с дощечкой. На нее — для утяжеления —
вставали ногами. Дощечка перекатывалась по валику-катку, а тот — по материи.
Естественно предположить, что какой-нибудь подмастерье-весельчак наловчился
сохранять равновесие на доске, не держась, как все, за веревку, спущенную с
потолка, и тем немало удивлял окружающих. И это уже был первый шаг к зрелищу.
Возможно, что наблюдательный бразилец подглядел нечто подобное в жизни, а
может, увидел изображение на старинной картинке или действительно придумал. Как
бы то ни было, но только вряд ли он предполагал, какое распространение получит
во всем мире его изобретение.
В самом начале 30-х годов снаряд попал в Советский Союз, где был усложнен и
стал называться «катушки», поскольку получил сходство с большой шпулькой. В
послевоенную пору кому-то из наших эстрадных артистов пришло в голову дерзкое
решение поместить катушку на катушку, но, разумеется, не торцовой частью, а
круглой. И сразу же снаряд приобрел новое качество. Теперь каждому стало видно,
как сложно, а главное — опасно удерживать баланс в подобном положении. Дальше —
больше; был освоен баланс на пирамиде из трех катушек, потом — из четырех. В
цирковой среде стали говорить, что это уже предел. Увеличить число катушек —
значит выйти за грань человеческих возможностей. И все же... Сегодня
балансируют на пирамиде из шести катушек.
В результате упорных тренировок Енгибаров овладел балансом на пирамиде из пяти
катушек — тогдашний высокий уровень. Достоинство номера, однако, заключалось не
в этом. Точнее, не только в этом, но и в изощренной образной форме, какую нашел
артист трюкам. Для него мастерское владение равновесием — это лишь повод
рассказать языком циркового трюка о человеческом пороке.
Миниатюра получила совершенно неожиданное для цирка решение — была разыграна в
форме притчи. Избрал эту форму Енгибаров не случайно. Притча позволяла
предельно заострить мысль, подать ее экспрессивно, а главное — четко выразить
свое авторское отношение к рассматриваемому явлению, и в конечном итоге —
подтолкнуть зрителей к тому, чтобы они сами сделали нравоучительный вывод.
Итак, притча о человеческом тщеславии. Некий субъект удерживал равновесие
сперва на одной катушке, потом на двух, затем на трех. Но этого ему было явно
мало. Полный предприимчивости и упорства, этот странный балансер словно бы
побуждал себя: давай, давай, любой ценой поднимайся выше! Тщеславное его
стремление прочитывалось как развернутая метафора, сообщавшая саркастическую
интонацию сценке.
После каждого удачно выполненного пассажа этот эксцентричный субъект церемонно
награждал самого себя медалями: удержит, скажем, равновесие на катушке, не
сорвется и — тотчас медальку пожалует на собственную грудь; удержится на двух
катушках — две медали повесит...
Под конец сценки необузданная страсть возвышения и жажда быть увенчанным все
новыми и новыми знаками отличия была доведена до метафорического преувеличения:
уже не две, не три медали, а целыми ворохами наград удостаивал себя кичливый
любитель почестей. Медали блестели и брякали не только на его груди, но и на
спине, и даже водопадом низвергались из-под шляпы. Художник давал своему герою
уничтожающую характеристику языком циркового трюка, отточенной пластики и
тонкой мимики. Зрители свободно улавливали в ее бесхитростном сюжете
иронический подтекст, вызывавший аналогии с действительностью. (Напоминаю: номер
выпущен в конце 60-х годов. Все хорошо знали, что тогдашнее высокопоставленное
лицо, обуреваемое тщеславием, питало наивную слабость к наградам и почестям.)
В структуре «Катушек» контрастно сочетались моменты статики (удержание
равновесия на снаряде) и динамики (горделивые пробежки после каждого
самонаграждения). Отмечу, кстати, что выполнять опасные трюки, не выходя из
образа,— труднейшая актерская задача, требующая предельного внимания и
физической свободы. В театральных школах добиваются этого от начинающих
артистов с превеликим трудом, в течение длительного времени. У Енгибарова же,
как, впрочем, и у большинства цирковых артистов, мышечная свобода и внимание
органичны, выработаны самой профессией.
к Катушки» были созданы под влиянием поэтики Брехта, творческим методом
которого Енгибаров глубоко заинтересовался в ту пору, особенно его «эффектом
очуждения». Суть этого эффекта состоит в том, что актер представляет зрителям
создаваемый им образ и тут же выражает свое отношение к нему. При этом не
происходит полного перевоплощения актера в персонаж. «Он не Лир, не Гарпагон,
не Швейк,— уточняет Брехт,— он этих людей показывает... Он изображает их манеру
поведения, насколько это ему позволяет его знание людей».
Не отождествляя себя с воплощаемым лицом, артист соблюдает между ним и собой
необходимую дистанцию, иными словами говоря, очуждается от него. Актер
рассматривает свое творение как бы с некоторого расстояния. Иногда этот эффект
образно называют «вольтовой дугой», яркая вспышка которой возникает лишь на некотором
отдалении двух углей.
«Эффект очуждения» — наиболее сильное средство актерского воздействия на
аудиторию. С его помощью, .указывал Брехт, удается поражать зрительный зал, ибо
«самые банальные явления перестают казаться скучными благодаря тому, что их
изображают как явления необыкновенные ».
Прибегая к «эффекту очуждения», актер тщательно анализирует психологию своего
персонажа и его поступки, сопоставляя их с действительностью; он как бы
получает право оценивать поведение своего героя: возвеличивать его или,
наоборот, остро порицать. Енгибаров говорил: «Я всегда стремлюсь не просто
сыграть репризу, а выявить, даже в крошечной сценке, свою авторскую позицию,
защищая или осуждая поступки своих героев».
Позиция, которую в это время занимает исполнитель роли, Брехт определял как
социально-критическую.
Пристально следя за всеми явлениями современной ему театральной жизни,
Енгибаров, естественно, не мог пройти мимо нового направления в актерском
искусстве. Прибегнув к «эффекту очуждения», он добился широкого обобщения
содержания и острой публицистичности в решении темы. Говоря словами Брехта,
«внушат зрителям аналитическое, критическое отношение к изображаемым событиям»
. Особо реформатор театра подчеркивал, что метод очуждения способен заострять
внимание зрителей на том, что подлежит осмеянию ради общественного изменения.
К подобного рода сатирическому снижению ложновысокого прибегают все виды
сценических искусств. К примеру сказать, в спектакле «Продавцы славы»,
поставленном в МХАТе в 1926 году, по ходу пьесы на сцену вносили огромный
портрет мнимого героя первой империалистической войны, изображенного во весь
рост, но до поры прикрытого холстом. На торжественной церемонии находились
важные персоны. И вот наступал момент открытия портрета. Присутствующие чопорно
застывали, скорбно обнажив головы. Холст отброшен и — о, ужас! — зрители
увидели «героя» вверх ногами... В одно мгновение торжественное превратилось в
карикатурное.
Соединять в одном лице подсудимого и прокурора — эстетическая задача не из простых.
Она требует от исполнителя виртуозного владения актерской техникой, изощренной
и гибкой, требует искренности, увлеченности, высокой эмоциональности,
пластической выразительности. «Особое изящество, сила, обаяние жеста,— писал
Брехт,— способствуют «очуждению».
«Катушки» — одна из наиболее сложных по композиции и художественно зрелых
миниатюр в репертуаре Енгибарова. В ней решалось одновременно несколько задач:
во-первых, демонстрировалось захватывающее трюковое зрелище — баланс на опасном
снаряде; во-вторых, выставлялся напоказ социальный образ большой обличительной
силы; в-третьих, содержалось притчевое иносказание с характерным для этой формы
заострением главной мысли. И, наконец, четко выражалась авторская позиция. Все,
вместе взятое, открывало зрителям простор Для нравственных сопоставлений.
В этой миниатюре Енгибаров впервые прибегнул к сгущению красок, к
гиперболизации. На манеже происходило развенчание социального порока —
беспредельного тщеславия, сатирическое снижение мнимовысокого, сбрасывание его
с пьедестала. Эта форма явилась эстетическим открытием актера — новым для цирка
изображением характера, не прямолинейного, а по- брехтовски остраненного.
«Катушки» активизировали зрительское восприятие, вызывали ассоциации. Сидящие в
зале должны были проделать некую мыслительную работу — дорисовать в своем
воображении определенный социальный тип, Характерный для того времени.
Енгибаровская миниатюра органично вбирала в себя новый подход к построению
сюжета, новые средства раскрытия характера, новое стилевое решение и, наконец,
отчетливую нравственно-социальную оценку «героя».
Енгибаров, творчески беспокойный, взыскательный мастер, не переставал
совершенствовать свои номера, вносить в них новые штрихи, расставлять акценты,
тщательно отшлифовывать каждую мелочь; он стремился всему придать
художественную завершенность. Такую отделочную работу актер называл
детализацией. «Свои интермедии,— говаривал он,— я не устаю детализировать».
Каждая новая встреча с этим актером радовала какой- нибудь свежей находкой. Он
был необыкновенно требователен к своему творчеству. И в особенности к дорогим
его сердцу «Катушкам». Помнится, в Киевском цирке я увидел в этой яркой
миниатюре несколько незнакомых выразительных деталей, уточняющих основную мысль
притчи. Прежде всего Енгибаров изменил центральную мизансцену: перенес реквизит
ближе к оркестру. Зачем? Вскоре я понял, что это была вполне оправданная
перестановка.
В конце номера, когда аппетит к наградам достигал апогея и вся грудь балансера,
наделенного непомерной амбицией, уже сверкала, словно зеркальный шар, перед тем
как взять последнюю высоту — пирамиду из пяти катушек — он обращался к дирижеру
оркестра с коротким мимическим монологом: «Ну, что вы там такое пиликаете!»
Гримаса брезгливости искажала его физиономию. «Какое-то жалкое тю-тю-тю...».
Пальцы выставленных вперед рук быстро шевелились, выражая тем самым, как. было
видно каждому, что-то мизерно-ничтожное. «Вы мне вот что... вы мне давайте...
этот, как его? торжественный туш, достойный моих высоких деяний». При этом
грудь его выпячивалась колесом, на лице появлялось выражение
многозначительности. Проделывал все это актер необычайно выразительно —
пантомимист-то он бесподобный. Саморазоблачение героя было полнейшим. Характер
музыки изменялся. Раздавались диссонансные аккорды, в которых слышалась
насмешка над пустым тщеславием.
Детализация, если употребить енгибаровское выражение, ощутимо укрупняла
содержание притчи, отчетливей выявляла ее иронический подтекст. И все, вместе
взятое, делало эту пантомиму значительным художественным явлением советского
цирка. Это был новый уровень жизни в образе, новый — по актерскому мастерству,
по проблематике, по формотворчеству и, наконец, по психологической
наполненности.
Если «Уличного акробата» и «Катушки» Енгибаров исполнял соло, без партнеров, то
интермедия «Тарелки» разыгрывалась в дуэте с инспектором манежа, непременной
фигурой программы, без которой немыслима цирковая арена.
Служебные функции этого лица — строго блюсти порядок на манеже и объявлять
номера. Как в прошлом (тогда он именовался шпрехшталмейстером), так и ныне
инспектор появляется на своем рабочем месте облаченный во фрак и крахмальное
белье—такова традиция. Презентабельный вид помогает ему внушительнее исполнять
свою роль — представительствовать от лица цирковой администрации.
Инспектор манежа, как персонаж, фигура однозначная — резонер; он серьезен и
строг, требователен и степенен, как правило, начисто лишен чувства юмора, зато
преисполнен собственного достоинства. Эти качества особенно проявляются в
общении с клоуном. Здесь его первейшее дело — пресекать всяческие шутовские
выходки этого легкомысленного и малопочтенного субъекта, присутствие которого
приходится ему терпеть тут против своей воли. Вся линия взаимоотношений
инспектора и коверного строится на конфликтных ситуациях. Но этот конфликт
особого рода: он всегда завершается смехом. Стычки этих персонажей — веселая
душа цирковых представлений.
Небезынтересно, что дети, сидящие в зрительном зале, недолюбливают инспектора
манежа, ведь он все время запрещает шалости такого понятного и родственного им
проказника — рыжего. Ребенок тем больше отождествляет себя с клоуном, чем
строже с ним обращаются.
Во взаимоотношениях инспектора манежа и енгибаровского героя Лени строгости
первого противостоят детская непосредственность и озорство второго. Если
инспектор — натура рациональная, то клоун — эмоциональная, душевные порывы
которой контрастируют с рассудочностью инспектора, человека безапелляционного.
Закон сценического контраста Енгибаров постигал на фильмах Чаплина, в которых
рядом с маленьким, беззащитным бродяжкой Чарли всегда действовал рослый,
крупного телосложения полисмен, хозяин или какой-нибудь другой персонаж,
наделенный примерно теми же обязанностями, что и цирковой страж порядка.
Работу с инспектором манежа Енгибаров называл парной. И был до педантичного
требователен к партнеру. Скрупулезно, без устали отделывал всю линию
сценических взаимоотношений, ревностно следя за тем, чтобы рисунок мимических
диалогов ни в коем случае не изменялся.
Каждый шаг партнера, говорил он, должен повторяться ежевечерне в том самом
виде, в каком установлено на репетиции. «Иначе я не смогу чувствовать себя на
манеже непринужденно».
Итак, интермедия «Тарелки». Фабула этой смешной и одновременно грустной сценки
такова. Инспектор манежа, желая проучить мальчишку-неслуха, который назойливо
путается у него под ногами, воображая себя то эквилибристом, то жонглером, дает
ему в качестве реквизита настоящие фарфоровые тарелки. И, конечно же, зазнайка
разбивает их одну за другой. Вот и весь сюжет. Примитивная на первый взгляд
сценка несла в себе, как и многие другие номера Енгибарова, тонко выраженный
нравственный урок.
Начиналась интермедия с того, что Леня пытался жонглировать старой, помятой
алюминиевой тарелкой, которую, видимо, выкинули за негодностью. Но оказывается,
не так-то просто подбрасывать и ловить предмет с такой же ловкостью, как только
что выступавшие жонглеры. Совсем не просто. И конечно же, повинна в его неудаче
эта жалкая вещь — его трофей, которым он еще так недавно гордился, бережно
прижимая к груди. А тут инспектор манежа, словно змей-искуситель, стал
сноровисто орудовать перед изумленным мальчишкой белой фарфоровой тарелкой. Вот
это да! «Я вижу, ты хочешь стать ловким жонглером,— словно бы говорил ему
инспектор.— Хорошо, сейчас проверим, годишься ли ты для этой роли. Повтори для
начала простое упражнение». Инспектор клал себе на каждое предплечье по тарелке
и затем, как бы сбросив их, ловил удивительным образом чуть ли не у самой
земли. Ну надо же!
И вот старая тарелка отброшена прочь, в руках у кандидата в жонглеры две
настоящие, сверкающие в лучах прожекторов праздничной белизной.
Но при первой же попытке повторить пассаж тарелки о треском разбились на куски,
непостижимо как столкнувшись в воздухе, словно их магнитом притянуло друг к
другу...
«Не огорчайся,— утешал его искуситель,— это бывает с новичками. Вот тебе другие
тарелки». И тут нашему Лене приходило на ум, что для такого важного дела он
недостаточно респектабелен. На мгновение он скрывался за кулисами и вновь
появлялся на манеже уже во фраке и черных кожаных перчатках (белых, как у
инспектора манежа, не нашлось). Нетрудно представить себе, что фрак с чужого
плеча придал клоуну самый нелепый вид.
В этом месте сделаем небольшую остановку, чтобы вкратце рассказать историю
появления кожаных перчаток. В тот день, когда актер наметил выпуск интермедии,
с ним произошел несчастный случай. Вот как Енгибаров сам рассказывает об этом.
«Все было тщательно отрепетировано, кроме незначительной, как я думал, детали. Я
ни разу не попробовал разбить тарелки. Мне казалось, уж если я могу
жонглировать, то разбить как-нибудь сумею. На премьере первая тарелка разбилась
удачно. Две следующие надо было кокнуть — одна о другую. Здесь-то меня и
подкараулила беда. Представьте, я их стукнул так, что мой большой палец повис,
как говорится, на ниточке. Кисть стала багровой. Зрители заметили «аварию», на
местах зашептались. Я засунул порезанную руку в карман, а здоровой кое-как
довел номер до конца».
Этот случай подтвердил старую истину, что на манеже мелочей не бывает, здесь
все чрезвычайно важно. В истории цирка известно множество несчастных случаев,
иные из которых предвидеть было просто невозможно. Ну вот, скажем к примеру,
отстегнулась английская булавка на лифе танцовщицы Саламбо, а стоило ей это
жизни. Более десяти лет выступала она с огромным тигровым питоном, а в тот
злосчастный вечер змея, обвившаяся вокруг тела артистки, укололась об острие
булавки и конвульсивно сжала Саламбо в смертельном объятии...
После того как врач снял швы, Енгибаров надел на репетиции кожаные перчатки,
когда понадобилось разбивать тарелки — на всякий случай. Да так и оставил,
привыкнув к ним.
А теперь вернемся к самой интермедии. Надо было видеть, с какой осторожностью,
с каким тщанием приступал Леня к делу. Но, увы! На красном ковре снова и снова
укоризненно белели осколки. И фрак не помог... Охваченный азартом, парнишка
вновь выпрашивал, вымаливал, выклянчивал у инспектора все новые и новые
тарелки. Но ни одна не принесла желаемого успеха. После каждой неудачи мы,
зрители, начинали ощущать нарастающую грусть, словно бы на наших глазах
разбивались прекрасные мечты юности. Артист проявил максимум выдумки: он
оснастил интермедию таким количеством смешных деталей и мотивировок, что
многократное повторение вроде бы одного и того же действия не наскучивало нам.
Лишь большому клоуну дано и повторы сделать интересными.
Комические детали — важнейший компонент любого комедийного действия, где, как
известно, смешит не целое, но частности. Детали — лексика комедийного языка.
Недаром говорится: «Комик слагается из деталей и чувства меры». «Тарелки* были
нашпигованы комическими трюками. Когда в руках у Лени в очередной раз осталось
по осколку, он нарочито грозно смотрел на своего наставника, считая именно его
виновником своих неудач И принимался точить осколки один о другой, как точат
иногда кинжалы в эксцентрических кинокомедиях. Однако, наделенный чувством
художественной меры, актер тотчас снимал веселой улыбкой наигранный ужас
кровавого отмщения. И превращал все в озорную шутку. А потом, так же светясь
своей покоряющей улыбкой, продолжал паясничать, положил оба осколка себе на
плечи — точь-в-точь генеральские эполеты, и принял бонапартовскую позу. Зрители
воспринимали веселые дурачества как импровизации, рожденные тут же находчивым
проказником.
Было видно, что к своему герою актер относится с доброй иронией. Самонадеянные
попытки Лени с ходу овладеть сложной жонглерской техникой оборачивались
конфузом — и, как следствие, становились источником смешного.
Заканчивалась интермедия так. Всем своим удручённым видом герой Енгибарова
словно бы говорил: хрустальная мечта моя приобщиться к волшебному миру цирковых
чудодеев разбилась вдребезги... Он медленно снимал фрак, затем перчатки, ему
грустно расставаться со всеми этими великолепными, на мальчишеский взгляд,
вещами. Что поделаешь, вот возьмите, чужого ему не надо. Он бережно оставлял
все на ковре и глубоко-глубоко вздыхал: не получился из него артист... В цирке
наступала непривычная тишина. Зрители хорошо понимали печаль этого паренька.
Она невольно передавалась в зал и почему-то бередила душу.
Енгибаров точно рассчитал: если в этот момент убавить свет на манеже, то у
зрителей возникнет безотчетное ощущение дискомфортное™. Только что манеж утопал
в лучах прожекторов, сверкали тарелки, блистало золото позументов на
униформистах, белели перчатки инспектора во фраке — все, вместе взятое,
создавало праздничное настроение. Но вот электрики убавили освещение — и манеж
посерел, сделался каким-то унылым... Удачное применение этого средства
выразительности вновь показало Енгибарова как одаренного режиссера, который с
такой эмоциональной силой помог нам взглянуть на мир глазами человека,
лишившегося светлых чаяний.
Леня поднимал с земли старую алюминиевую тарелку, которую каких-то семь минут
назад пренебрежительно отбросил за ненадобностью, бережно сдувал с нее пылинки
и, вновь ласково прижав к груди, словно живое, беззащитное существо, понуро
брел к выходу...
Невеселая концовка рождала самые неожиданные ассоциации. Кто-то в тот момент
мог подумать о человеке, который вернулся к оставленному любимому делу после
тщетных усилий поймать синюю птицу, кто-то решил, что гнаться за призрачным
счастьем бесполезно, кто-то — о возвращении к привычной, дорогой сердцу вещи, и
так далее и тому подобное.
Впрочем, и хорошо, что отсутствовало окончательное авторское заключение, что
сценка завершалась многоточием. Теплота и юмор интермедии, художественная
правда происходящего на манеже, высокое исполнительское мастерство побуждали
чуткого зрителя соотносить ее нравственный урок с собственным жизненным опытом.
Исследуя структуру «Тарелок», приходишь к выводу, что по некоторым жанровым
признакам миниатюра близка к психологической драме — драме несбывшихся надежд.
В основе сюжета конфликт между желаниями героя и его возможностями, в
результате чего развенчиваются иллюзорные представления Лени о себе как об
умелом жонглере. По своему художественному решению миниатюра не имеет аналогов
в клоунской практике прошлого. Особенно неожидан в ней финал. Комики всегда
приберегают для концовки самый эффектный трюк, чтобы уйти с манежа шумно, с
треском и непременно под взрыв хохота. Здесь же, как и в «Уличном акробате»,
все завершалось пронзительно грустной нотой, которая сменяла веселое
балагурство.
Гармоничное сочетание комического и грустного вообще характерно для творческой
манеры героя нашего рассказа — он первым утвердил на арене этот стиль, который
принято теперь называть стилем Енгибарова.
Давно замечено, что в детском возрасте удивительно плодотворна фантазия. Во
время игр ребята способны воссоздавать в своем воображении целые миры. У героя
Енгибарова — характер любознательного мальчишки, тоже наделенного неистощимой
фантазией.
Вот, скажем, в руках у Лени оказалась метла, которой униформист только что подметал
ковер. Метла — да ведь это же отличная вещь для веселой игры! Чего только из
нее не сделаешь, во что не превратишь! Так начиналась одна из лучших интермедий
Енгибарова, которую он сам называл то «Калейдоскоп», то «Шайба». На мой взгляд,
точнее было бы назвать «Импровизация», ибо вся она построена на каскаде
мини-сценок, как бы рожденных тут же, сию минуту. Это и составляло очарование
интермедии и определяло ее стилевую и структурную особенность.
Кто не помнит игрушку «Калейдоскоп»! При каждом повороте трубки с разноцветными
стекляшками перед глазами чудесным образом возникают удивительные узоры. Вот и
в интермедии Енгибарова так же: поворот — и перед нами новый персонаж, новая
меткая характеристика. Повороты незаметны, образы мелькают веселой чередой, как
бы вытекая один из другого. Возникает целая коллекция живых картинок, словно
разглядываешь путевой альбом художника, вернувшегося из творческой
командировки. Сделанные на скорую руку зарисовки оживают перед взором зрителя и
могут порой рассказать больше, чем законченная вещь. Это происходит потому, что
включается фантазия. Воображение дорисовывает то, что карандаш художника лишь
пунктирно наметил.
Хотя еще на заре человечества Цицерон предупреждал, что смешное сопротивляется
любому описанию, тем не менее попытаюсь коротко пересказать содержание
«Калейдоскопа».
Инспектор манежа заставляет мальчишку-бедокура подобрать раскиданные им повсюду
вещи. А тот дурашливо уклоняется. «И это подберите!» — раздраженно указывают
ему на метлу. Нехотя озорник повинуется. Но как только удовлетворенный
распорядитель направляется за кулисы, проказник наставляет на него метлу, точно
ружье — глядите, ведет, как арестанта под конвоем. Инспектор слышит смех
зрителей и резко оборачивается. «В чем дело?» Находчивый парень тотчас
превращает метлу в... электрогитару, а сам перевоплощается в парня из джаза со
всеми характерными повадками. «Вот я тебе!» — инспектор сердито направляется к
неслуху, чтобы наказать его, а проказник как ни в чем не бывало вскинул метлу
на плечо, словно ружье, и, вытянувшись по всей форме, отдает начальству честь.
Однако едва только страж порядка показывает спину, как шалун принимается весело
скакать на метле, как на лошадке.
По пути на глаза ему попадается шляпа, валяющаяся на ковре. Эти два предмета —
шляпа и метла — наводят его на мысль о хоккее. И вот он уже словно заправский
нападающий, с абсолютной верой в предлагаемые обстоятельства, повел
клюшкой-метлой шайбу-шляпу к воротам противника. Раскрытые створки циркового
барьера и впрямь будто ворота, а в них — раздраженный инспектор манежа, в него
и пришелся меткий удар. Гол! Захваченный игрой, нападающий мгновенно
преобразился во вратаря, всем своим видом приглашая инспектора: «Бейте, а я
буду принимать шайбу!»
По логике вещей недовольный инспектор отбрасывает шляпу обратно озорнику, а
тот, продолжая игру, ловит ее, как настоящий вратарь приемом «на живот».
Однажды инспектор неудачно отшвырнул шляпу метра на три в сторону. Но артист не
растерялся. В его записках «Раздумья клоуна-мима» читаем: «Я мгновенно бросился
за ней с вытянутыми руками, тем «тигровым» прыжком, каким берут труднейшие
угловые. Зал живо отреагировал на мою импровизацию. И я ее закрепил, как и
другие удачные находки».
«Калейдоскоп» совершенствовался и шлифовался неустанно. Как-то раз, во время
исполнения этой репризы, на манеж «незапланированно» выскочили навстречу
коверному два униформиста. «И я,— писал Енгибаров в тех же «Раздумьях»,— как
заправский мастер клюшки, сильным толчком плеча отбросил одного влево, другого
вправо — «взял их на корпус», как говорят хоккеисты...». А в Чехословакии, где
очень любят эту игру, комик скопировал повадки популярного чешского вратаря
Стражилы, прозванного «Человеком в маске». Пародия была столь узнаваемой, что
зрительный зал, казалось, рухнет от смеха, выкриков и аплодисментов.
Персонажи этой интермедии, сменявшие друг друга, были исполнены не с точностью
фотоснимка, а, скорее, в манере дружеского шаржа, со всеми присущими этому
жанру признаками: меткостью рисунка и забавным преувеличением черт характера.
Заразительная увлеченность и отточенное мастерство, с какими актер
лицедействовал на манеже, делали эти шаржированные зарисовки впечатляющими и
доходчивыми.
Не часто случается видеть на театральной сцене или на киноэкране, на эстрадных
подмостках или на цирковой арене, чтобы на наших глазах импровизационно
рождалось яркое сценическое действие, как это происходило в «Калейдоскопе», чем
он и был так интересен зрителям.
В этой сценке пространственно-временные связи были разорваны, а реальный мир
как бы взят в кавычки. Актерское поведение и средства выразительности были
необычайно современны. Юноши и девушки узнавали в героях дружеских шаржей себя
и мир своих увлечений. Шутки н розыгрыши импонировали им, будоражили
воображение, активизировали восприятие происходящего на манеже. Тем самым
значительно усиливалась эмоционально-художественная эффективность
«Калейдоскопа».
Появление в репертуаре Енгибарова интермедии «Микрофон» произошло, можно
сказать, по чистой случайности и связано со следующим непредвиденным
обстоятельством. Как-то раз во время вечернего представления, когда коверный
уже исполнил свои номер и направился было в гримировочную комнату, инспектор
манежа шепнул ему: «Потяните!» Это значило, что за кулисами произошла какая-то
накладка и следует отвлечь публику. «Что предпринять?» — мысль напряглась до
предела. Реквизита подходящего под рукой не оказалось. «Что же сделать?» И в
этот момент коверный заметил, что униформист положил на барьер микрофон,
предназначенный для следующего номера.
«Когда я подходил к микрофону,— вспоминает Енгибаров,— я еще не знал, что буду
с ним делать. Но как только он оказался в моих руках, сразу же возникло решение
— я начал произносить в микрофон зажигательную речь. Разумеется, она была
бессловесной. И вдруг обнаружил, что микрофон не работает. Я постучал по нему,
подул. А в мозгу тревожно билось: «Что же дальше?» — «Наступи на шнур!» —
подсказала обострившаяся мысль». Подобно опытным фокусникам, он сделал
отвлекающий жест — заставил зрителей посмотреть вверх, а сам тем временем
поставил ногу на шнур. Появился повод для импровизации. Сыграл крайнюю степень
удивления, обнаружив — почему молчит микрофон. Снял ногу со шнура. Постучал по
микрофону. Теперь полный порядок. Приготовился ораторствовать. И вдруг его
охватила отчаянная робость; он открывал рот, но слова не слегали с языка.
Вконец растерянный, взглянул на инспектора — как быть? Тот сделал
подбадривающий жест. Мимически Леня показал начальству, что очень волнуется. И
неожиданно для самого себя приложил микрофон к сердцу, словно стетоскоп. «И тут
меня осенило,— продолжает рассказ Енгибаров,— незаметно я стал щелкать пальцем
по микрофон». «Тук-тук-тук»,— раздалось по всему цирку. Это билось мое
взволнованное сердце.
Находчивому коверному пришло на ум проверять работу сердца инспектора. Оно
билось совсем в другом ритме: «Бум!» — интервал. «Бум!» — снова интервал.
«Бум!»—долгий интервал. Зрители засмеялись. И в это время подали знак —
закругляйтесь, все в порядке.
Таким образом, сама, как говорится, далась в руки ненароком возникшая
интермедия большой внутренней емкости.
Дальнейшая ее детализация была делом времени. Прежде всего Енгибаров усилил
эмоциональные акценты. Когда клоун слышал, что сердце в груди инспектора
перестало биться, его охватил настоящий ужас. В поисках пропажи лихорадочно
шарил он микрофоном-стетоскопом по всему телу «пациента». Но тщетно.
Перепуганный юнец заглядывал ему в глаза и плакал от жалости. Однако инспектор
спокойно предлагал поискать сердце с левой стороны груди. И когда раздавался
желанный стук, радостям Лени не было конца.
Мнимое исчезновение сердца коверный пытался перенести на себя. Под грозным
взглядом верзилы-униформиста сердце тщедушного паренька колотилось, словно
секундная стрелка: «Тик-тик-тик-тик». Звук постепенно угасал, а потом и вовсе
пропадал. Обмякнув, Леня медленно опускался на ковер. Ему давали стакан воды...
С этой репризой артист продолжал экспериментировать, привнося в нее свежие
детали. Например, появилась такая веселая краска. Проказник, намереваясь
поразвлечься, пытался потихонечку унести микрофон. «Нет, нет, молодой человек,
это—не забава!»—пресекал его поползновения бдительный страж порядка. Но старая
истина гласит: запретный плод особенно сладок. Одна забавная попытка умыкнуть
микрофон сменялась другой. Придумал Енгибаров и такой комический пассаж —
остроумно овеществленную метафору: сердце перепуганного коверного микрофон
обнаруживал в... пятках. Актер впечатляюще передавал мимикой высшую степень
удивления — подумать только, куда закатилось...
Некоторое время спустя интермедия обогатилась еще одной яркой находкой. Леня с
микрофоном-стетоскопом перекочевывал в амфитеатр, чтобы обследовать сердца
зрителей. Енгибаров нашел выразительную форму передачи диагноза — короткой
музыкальной цитатой в исполнении оркестра. Освидетельствование показало, что у
одного зрителя сердцу «не хочется покоя», у другого было «легко на сердце от
песни веселой», третий признавался, что у него «есть сердце, а у сердца —
песня, а у песни — тайна»... Сердце четвертого предательски выдавало состояние
своего владельца: «шумел камыш». Миловидной зрительнице клоун предлагал самой
обследовать свое сердце и передавал ей микрофон. И в оркестре слышалось:
«Сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер мая».
Как-то я увидел, что микрофон переместился на стойку. Зачем? Чтобы отыскать
пропавшее сердце, коверный склонил ее к земле и стал водить тем характерным
«поисковым» жестом, каким саперы ищут мины... Блистательная находка!
Некоторые теоретики киноискусства любят подсчитывать количество гэгов в той или
иной комедии. Если последовать их примеру, то енгибаровский «Микрофон» по
насыщенности комическими деталями приближался к «Боксу», самому смешному антре
в его репертуаре.
Анализируя художественную структуру «Микрофона», отмечу в первую очередь
современную стилистику этой интермедии, ее импровизационность, лаконизм формы
и, наконец, особый тип конфликта, который лежал в основе взаимоотношений
коверного Лени с инспектором манежа. Конфликт здесь был иным, нежели, скажем, в
«Калейдоскопе» — более смягченным. По своему наполнению схож с конфликтом
интермедии «Тарелки»: инспектор не пресекал мальчишеских шалостей, не боролся с
нарушителем порядка, а лишь добродушно подшучивал над забавным пареньком.
Если «Калейдоскоп» можно уподобить «рассказу в лицах», то «Микрофон» — это
пантомимический монолог. Актер здесь никого не изображал, а лишь действовал в
предлагаемых обстоятельствах, играл ситуацию.
В «Микрофоне» мы встретились с типичным образцом эксцентрического мышления. И в
самом деле, обнаружить сердце в пятках, использовать микрофон то как стетоскоп,
то как миноискатель, то как инструмент оценки свойств человеческих сердец — все
это не что иное, как эксцентрическое переосмысление окружающего мира. К слову
заметить, Енгибаров считал эксцентрику наиболее действенным средством из всех
видов циркового комизма. А самого себя полагал не столько клоуном, сколько
эксцентриком. И когда временно перешел на эстраду, назвал свой театр
«Эксцентрическим».
Эксцентрика в енгибаровском понимании — это способ невозможное делать
возможным, соединять несоединимое. «Несоответствие формы и содержания,— записал
он у себя в блокноте,— один из сильнейших эффектов эксцентрики». Я сгруппировал
его мысли на этот счет и попытался свести их в некую систему. Сразу же
оговорюсь, речь пойдет не об эксцентризме как одной из форм художественного
мировоззрения, но как одном из приемов циркового комизма.
Из различных толкований эксцентрики самым емким Енгибарову представлялось
сравнение ее с диском, ось которого не совпадает с геометрическим центром.
Именно этот образ казался ему наиболее наглядно иллюстрирующим самую суть
эксцентрики — отклонение от общепринятого.
Актеры или художники, писатели или цирковые клоуны обращаются к этому острому
средству с целью привлечь внимание к проблеме, которую им важно донести до
зрителя или читателя в наиболее убедительной форме, ярче осветить
примелькавшееся, укрупнить мысль. И наконец, обращаются к эксцентрике, когда
ставят перед собой задачу «подать приготовленное блюдо с перцем, чтобы потом
долго жгло во рту». Эту запись, сделанную рукой Енгибарова, я нашел на поляк
книги Г. Козинцева «Глубокий экран». Там же остались и другие рассуждения
клоуна на эту тему: «Эксцентрик ставит с ног на голову обыденные предметы. Их
неожиданное несоответствие своим привычным функциям смешит». А несколькими
страницами дальше (глава «Пророки и клоуны»): «Эксцентрика ломает традиционные
формы иронией и гротеском». «Эксцентрика обесценивает устоявшиеся нормы и
условности. Превращает реальное в фантастическое. Обычное представляет в
необычном ракурсе», «Основной принцип действия эксцентрического механизма —
внезапность». Верное наблюдение. Внезапность — движущая сила едва ли не каждого
эксцентрического трюка.
О механизме действия цирковой эксцентрики Енгибаров размышлял достаточно много
и пришел к заключению: «Этот механизм весьма и весьма многообразен. Цирковой
эксцентрик изменяет привычные пропорции вещей: английская булавка, которой
застегнуто его клетчатое пальто,— величиной с зонт, а зонт, с помощью которого
он балансирует на проволоке, чуть ли не с булавку... Часто эксцентрик
контрастно сталкивает различные по размерам предметы: огромный футляр, а в нем
— гармонь со спичечный коробок...
Вещи в эксцентрике используются не по своему прямому назначению: я беру метлу и
превращаю ее в электрогитару, шляпу — в шайбу. Скрипкой вожу по смычку.
Музыкальный эксцентрик Ругби, говорят, играл на балалайке, как на скрипке».
Выходя за границы общепринятого, выворачивая наизнанку обыденное, эксцентрика
способна вскрывать внутренние противоречия явлений. Однако «выворачивание
наизнанку» не означает отказ от реалистических позиций или от художественной
правды. «Без правды эксцентрике грош цена»,— слова Сергея Образцова. Да.
истинная эксцентрика, не отходя от правды, может отражать глубокие
закономерности жизни парадоксальным сопоставлением несопоставимого.
Как показывает анализ репертуара Енгибарова, эксцентрика — излюбленный метод
этого клоуна; с ее по мощью он раскрывал социально значимые темы, наиболее ярко
выраженные в интермедиях «Катушки», «Статуя», «Бокс». Эксцентрическими приемами
он пользовался так же, чтобы высечь звонкий комический эффект. Его номера
«Микрофон» и «Калейдоскоп» полны бьющей через край веселости. При всей
незамысловатости содержания они несли зрителям заряд бодрого настроения. К их
достоинствам можно отнести и современный стиль, изящество, остроумие мысли и
формы, что также немаловажно для циркового искусства.
Пантомимический репертуар требует от исполнителя совершенного мастерства, ибо
интерес зрителей в данном случае удерживает не содержательная текстовая
реприза, а лишь яркая мысль и виртуозная телесная пластика. Многие интермедии
Енгибарова основаны на высокой цирковой технике, какой добиваются длительной
тренировкой. И среди них — «Зонтики» и «Скакалка», выполненные с большим
изяществом и в образной форме.
Задумывая «Зонтики», Енгибаров воспользовался жонглерским навыком,
приобретенным еще в стенах циркового училища. Из всего традиционного набора
зонтов выбрал необычные, детские. Они привлекли пестрой рас цветной куполов. К
тому же в таком выборе было заложено юмористическое начало. Конечно, просто
перебрасывать из руки в руку три предмета малоинтересно. И ему пришла
счастливая мысль кидать и ловить их ногами...
С энтузиазмом принялся Енгибаров отрабатывать новый прием, найдя в нем немало
оригинальных комбинаций. Три веселых зонтика, если воспользоваться описанием
самого артиста из литературной новеллы «Жонглер», «вылетают из- за спины,
выскакивают из-под ног, кувыркаются высоко над головой; и то закрутятся бешено
у самой земли, то как будто повиснут в воздухе». Проворные ноги подкидывали,
вертели, подшлёпывали зонтики (в закрытом виде), и те живо перелетали с носка
на носок, выписывая арабески, вензеля и завитушки, с ног перескакивали в руки и
вновь — к ногам, словно в залихватской пляске. Енгибаров безостановочно порхал
с шустрыми зонтиками по всему манежу. Ритмичный и легкий, он захватывал публику
своей увлеченностью.
И тем не менее сам артист не испытывал удовлетворения. Еще не была найдена
концовка, способная сообщить интермедии художественную завершенность.
Как видим, и здесь та же забота о впечатляющем финале — важнейшей части каждого
циркового произведения. В личной библиотеке Енгибарова была книга М. Румянцева
(Карандаша) «На арене советского цирка». Многие страницы ее сохранили пометки,
представляющие интерес для нашего разговора. Будущий клоун подчеркнул строку,
где прославленный мастер смеха анализирует причины своих неудач, в частности
отсутствие в его сценках финальных точек. «Мне стало ясно,— писал Карандаш,—
какую серьезную ошибку я допустил... Сейчас я прежде всего поставил себе целью
добиться в своих репризах четкой подачи ясных, вполне завершенных концовок».
Живо помнил молодой артист и рассказы Леона Танти о мучительных поисках ударных
финалов, а теперь и сам осознал, как важна для комедийного номера яркая точка.
Если она не придумана, то даже серьезные трюки, как он выражался, повисают в
воздухе.
Да, нелегкая была задача. Отметался вариант за вариантом, но такой, чтобы
полностью его устроил, все никак не приходил в голову. Но вот на глаза артисту
попалась иллюстрация в книге: художник нарисовал игроков в гольф, на плечах у
них висели длинные сумки с торчащими оттуда клюшками. Ба! Да ведь и зонтики
могли бы располагаться таким же образом, тем более что наплечные сумки ныне
входят в моду у молодежи...
Енгибаров смастерил из подручного материала «первый, как он говорил,
экспериментальный образец» сумки и в творческом нетерпении тут же в холле
цирковой гостиницы стал испытывать свою придумку. Далеко не сразу удалось ему
забросить зонтик с подъема ноги в сумку, висевшую на плече. Ну а там, где
цирковому артисту удалось один раз, там уж, будьте уверены, получится столько,
сколько надо.
Спортивная сумка придавала коверному в полосатой фуфайке современный облик,
необычайно импонирующий
молодым зрителям. Когда в конце жизнерадостного действия игривые зонтики
влетали один за другим в свое гнездо, а жонглер удалялся с манежа элегантной
ритмизованной походкой, публика награждала искусного мастера дружными хлопками.
В отличие от кинофильма, в котором после выхода на экран уже, как говорится,
ничего ни прибавить, ни убавить, «живые» виды зрелищных искусств — театральный
спектакль, эстрадное ревю, цирковой номер — пребывают в безостановочном
движении, день ото дня совершенствуются, растут, обогащаются новыми штрихами.
Подобного рода шлифовку репертуара Енгибаров проводил постоянно. Не раз слышал
я от него: «Каждая новая интермедия — это лишь костяк, который еще должен
обрасти мясом...» «Обрастание» происходило по-разному, иногда — в минуты
творческого вдохновения, как, скажем, счастливая находка цветка в «Боксе»,
иногда же помогал случай.
Именно таким образом была усовершенствована интермедия с зонтами. Вот как это
произошло. Однажды клоун спешил на телестудию, где должно было состояться
выступление группы ведущих артистов цирка «Ереван». В тот вечер, по его словам,
на манеже все немного гнали представление. Поторапливался и коверный. Пришлось
жонглировать зонтами в более быстром, чем обычно, темпе. И что же? Успех этой
интермедии заметно повысился. Наблюдательный артист не прошел мимо этого
обстоятельства и на следующий вечер уже сознательно манипулировал зонтами
значительно живее. И не просчитался — его проводили небывало громкими
аплодисментами.
«Зонтики» подкупали своей музыкальностью. Это был поистине праздник ритма и
пластики. К слову заметить, актера, наделенного внутренней музыкальностью,
легко отличить, где бы он ни работал — на сцене, на экране, на манеже.
Енгибаров был предельно музыкален. Каждый его жест, каждый поворот головы
отличались ритмичностью, «певучим» было и его пластически выразительное тело. И
это абсолютное чувство ритма доставляло зрителям эстетическое наслаждение.
Случалось, что, создавая интермедию, Енгибаров шел от формы к содержанию. Так
возникла веселая шуточная сценка «Скакалка». Однажды артисту рассказали о
затейливом трюке — прыжках через веревку... лежа. Необычное упражнение очень
понравилось молодому клоуну, и он решил освоить его. Но встал вопрос, как
оправдать прыжки в лежачем положении? Нужно какое-то образное решение — но
какое именно? Трюк уже давно отрепетирован, однако ничего подходящего в голову
не приходило. А ведь, казалось бы, скакалка куда как хорошо сочетается с
характером мальчишки-проказника.
Размышления привели в конце концов к старинному приему, который в
профессиональной среде называется «Здесь нельзя». «Здесь нельзя играть!»—строго
говорил шпрехшталмейстер парижского, или берлинского, или лондонского цирков
музыкальным клоунам и отбирал у них концертино, взамен которых, едва только тот
уходил, плуты извлекали из своих вместительных карманов саксофоны... «Здесь
нельзя курить!» — строго говорил шпрехшталмейстер варшавского, или
стокгольмского, или петербургского цирков рыжему, дымившему папиросой. И только
было протягивал руку, как папироса в мгновение ока исчезала во рту ловкача...
Вот так, изобретательно дурача респектабельного представителя цирковой власти,
придумывая увертку за уверткой, мастера смеха нанизывали на этот смысловой
стержень все новые и новые комические ходы. Накопилось достаточно много
вариаций подобного рода клоунских сценок, у которых, к слову заметить, глубокие
социальные корни.
С незапамятных времен в комедийном искусстве бытует смех, вызываемый
изворотливостью и плутнями разбитных слуг, находчиво обводящих вокруг пальца
своих хозяев. Слуги, представители народа, издавна наделялись способностью
ловко ориентироваться в любых жизненных обстоятельствах и находить выход из,
казалось бы, безвыходных положений; эти стреляные воробьи никогда не унывали. И
симпатии простых зрителей неизменно были на их стороне, даже если удача
достигалась ими не вполне безупречными, с точки зрения строгой морали,
средствами, было бы только похитроумней.
Итак, после очередного номера Леня принимался по- ребячьи прыгать посреди
манежа через веревку. «Здесь нельзя скакать! — строго говорил инспектор манежа
озорнику и отбирал у него веревку. Начиналась привычная игра: инспектор
отворачивался, а у проказника в руках другая прыгалка, размахивая которой, он
вновь беззаботно скакал по манежу. И откуда только он их брал? Мальчишку
заставляли выворачивать карманы, но там, конечно же, ничего не было, а прыгалки
тем не менее появлялись и появлялись... Соль этой веселой интермедии
заключалась в тех разнообразных уловках, какими баловнику удавалось провести
придиру-инспектора. И вот, наконец, последняя веревка. Кто бы мог подумать, что
она окажется в... шляпе сорванца! Жаль только — новая скакалка слишком
короткая, не больно-то попрыгаешь. Как же быть? И Леня быстро сориентировался:
начал с необыкновенной ловкостью скакать... лежа.
Первое время трюк на том и заканчивался. Однако артист видел — у хорошей сценки
нет завершающей точки. Постоянно бодрствующая мысль подсказывала одно решение
за другим, пока не была придумана концовка, которая удовлетворила исполнителя.
Вот как она выглядела: возмущенный инспектор подбегал к насмешнику — «Сейчас же
отдай!» Но озорник быстро завязывал веревочку на шее и всем своим независимым
видом словно бы говорил: а это вовсе и не скакалка, это мой галстук. И гордо
удалялся.
10
Не все в репертуаре Енгибарова было равноценно. Исполняя он и репризы,
эстетический уровень которых, на мой взгляд, был гораздо ниже других его
произведений. Они выпадали из общей тематической направленности мастера арены,
не содержали в себе сколько-нибудь примечательной мысли и не отличались
образной формой. Такого рода номера принято называть проходными. К их числу
можно отнести и пародийную сценку «Канатоходец», в которой Леня, юный герой
Енгибарова, подражая настоящим канатоходцам, расстилал на ковре бельевую
веревку и, балансируя на ней с завязанными глазами, сопровождал свою
эквилибристику незамысловатыми шутками.
Близка к «Канатоходцу» и немудрящая интермедия, которую сам артист называл
no-разному: «Баланс», «Жилетка», «Шарфик» (это один из самых ранних его
номеров). Содержание ее сводилось к балансу на лбу пирамиды из различных
предметов. Замысел был подсказан давним интересом Енгибарова к корриде. Он
надумал дразнить красным плащом инспектора манежа, словно тореадор быка. В этом
знакомом большинству зрителей Действии ему виделось некое зерно комического. Но
специально выносить на манеж красный плащ, по его мнению, значило убить
непосредственность. Реквизит и жесты тореро, считал он, должны возникать из
веселого ребячьего дурачества, как бы импровизационно.
Перебрав ряд вариантов, он остановился на самом простом: плащ—это красная
подкладка на его жилетке. Инспектор в очередной раз категорически пресекал
попытки мальчишки вмешиваться в работу униформистов. И тогда сорванец, подражая
тореро, принимался дразнить, словно быка, сурового инспектора. Тот хотел
отобрать жилет, но проказник ловко увертывался и вновь не без изящества
принимал характерные пластические позы, подсмотренные в фильмах о корриде. И
зрителя веселила эта игра. Вдруг пострел увидел забытую на манеже метлу,
выдернул из нее палку и тотчас переключился с детской непосредственностью на
новую забаву: аккуратно расположил шляпу, жилетку, кашне и трость на вершине
палки, а затем с величайшей осторожностью и многими забавными подробностями
установил себе на лоб. Точно заправский цирковой балансер, он удерживал это
хрупкое сооружение в равновесии. Но вот последовал удар рукой, и палка отлетана
в сторону, а все вещи — прямиком на свои моста: шляпа на голову, шарфик на шею,
жилетка на плечи, трость в руку.
В том же ряду стоял и «Скрипач». В этой традиционной эстрадно-цирковой репризе
актер изображал человека, впервые в жизни взявшего в руки инструмент. Если
«Бокс» или «Статуя», также заимствованные из классического циркового наследия,
получили в интерпретации Енгибарова, по существу, новое смысловое звучание, то
для «Скрипача» не нашлось ни свежего приема, ни какого-либо эксцентрического
поворота. Не отличалась эта реприза и виртуозной исполнительской техникой, как
«Зонтики» и «Скакалки». Да и юмором, в общем-то, не блистала.
Надо отдать должное, Енгибаров критически относился к этим интермедиям и
собирался их заменить, по его словам, настоящими. Однако целиком захваченный
«Авторским цирком» (речь о нем впереди), не успел осуществить задуманное.
Итак, подытожим. Истинно творческая личность не довольствуется достигнутым, а
неустанно стремится к совершенству, пребывает в вечном поиске новизны. К таким
беспокойным художникам принадлежал и Леонид Енгибаров. Он безостановочно
шлифовал репертуар, делал сценки более выразительными, более тонкими и
содержательными. Большая их часть выходила за рамки обычных цирковых номеров и
приближалась к искусству драматического театра. Многие его интермедии были
построены в расчете на умного зрителя, способного дорисовать, домыслить то, на
что клоун сделал лишь намек.
Вклад Енгибарова в искусство клоунады колоссален. Самым заметным образом он
раздвинул границы смехового жанра, обнаружил скрытые дотоле возможности
циркового языка, принес на манеж безукоризненный вкус и свежесть пластических
решений. Его нововведения, богатство художественных находок, необычность самого
сценического образа и общего подхода к цирковому комизму энергично влияли на
развитие не только советской, но и мировой клоунады, оказывали прямо-таки
гипнотическое воздействие на творческие поиски молодых актеров. И поныне
здравствует и процветает на манеже и эстраде енгибаровский стиль
пантомимической клоунады.
Красноречивое молчание
Никакие слова не выразят
с такой точностью и искренностью
внутреннюю жизнь человека,
как это сделает жест.
Софико Чиаурели
Буквой «М», похожей на указатель метро, Енгибаров помечал все, что относилось к
искусству пантомимы. «М», поставленное на уголке листа, на папке или в
блокноте, было для него шифром, означающим «мим». По этому знаку мне было
удобно находить в его архиве нужные заметки.
Итак, пантомима в творчестве Леонида Енгибарова. Но прежде чем углубиться в
анализ содержания и форм его безмолвных миниатюр, прежде чем рассмотреть
средства, какими ему удавалось достигать столь высоких художественных
результатов, зададимся вопросом — что же такое пантомима как вид искусства?
Предложено много определений. Достаточно раскрыть энциклопедию, чтобы найти
толкование сущности пантомимы. Енгибарова тоже занимал этот вопрос. В его
бумагах, помеченных буквой «М», находим такие записи: «Пантомима — это рассказ
о жизни, переданный движением»; слова английского критика и теоретика Артура
Симонсона: «Пантомима — подслушанное мышление», а рядом замечание Енгибарова:
«Пантомима - оживленная мысль».
Здесь мы видим присущее герою этой книги непрестанное беспокойное стремление
улучшать, отшлифовывать, делать более совершенным все, что попадало в поле его
зрения.
Среди записей встречаются короткие черновые наброски, сделанные торопливой
рукой, очевидно, мысли, пришедшие внезапно. Вот типичная для этого рода
заметка, относящаяся к истокам искусства безмолвного красноречия: «Театральное
действо начиналось с мимического передразнивания ». Стоит к этому добавить о
переодевании наших далеких предков в шкуру животных с целью удачной охоты, и
вот запев исторического очерка на тему — откуда пошла пантомима.
А рядом другая беглая запись с критической, а может быть, даже насмешливой
интонацией о ком-то: «пластическое косноязычие... пластический заика...»
Суждения Енгибарова об искусстве мимов глубоки и зрелы. Некоторые из них
звучат, словно отточенные афоризмы: «Как в песне не может быть ни одного
лишнего слога, так и в пантомиме ни единого необязательного жеста». «Как в
поэзии нетерпимы прозаизмы, так и в пантомиме — описательные жесты». «Рано
отправлять цирковую пантомиму в косметический кабинет, чтобы сделать ей серию
питательных масок, подтянуть кожу, сгладить морщины. Она в этом не
нуждается...».
Любопытна запись, сделанная Енгибаровым не без озорства в моем блокноте:
«Заметьте себе: ввожу в научный оборот новый термин — пластическое эссе».
В интервью радиостанции «Юность» Леонид Енгибаров сказал: «Я не согласен с тем,
что пантомиму называют «молчаливым искусством». Мне кажется, что жест, мимика
имеют свое звучание, как имеет свое звучание цвет. И так же звучит пластика,
если она организована». Подтверждением этому наблюдению может служить
творческая практика известного режиссера С. Э. Радлова, который употреблял
вместе со своими учениками специальный термин: «бессловесный звук».
Развивая мысль о возможностях пантомимы, Енгибаров писал, что хотя мим и не
пользуется словом, искусство его отнюдь не относится к разряду немых. «Разве вы
не слышите, как стонут руки Марселя Марсо, пытаясь разогнуть железные прутья
бесчисленных клеток? Нет, мир пантомимы полон звуков и красок. Он гремит и
грохочет, звонко поет и тихо шепчет слова любви».
Пантомиме Леонид отдал предпочтение потому, что она, по его словам, во-первых,
способна действенно выражать мысли; во-вторых, активно пробуждать фантазию
зрителей, делать их соучастниками. И в самом деле, вряд ли возможно смотреть
пантомимическую вещь равнодушно. Пассивность восприятия просто исключена. Не
потому ли Теофиль Готье называл пантомиму «активной мечтой»? Мим тормошит
воображение сидящих в зале, вызывает в зрительском сознании ассоциации,
побуждает домысливать сценическую ситуацию, дорисовывать образы, причем каждый
человек дорисовывает так, как ему подсказывает собственный жизненный опыт,
знания, внутренний мир его души. Противник назидательности, Енгибаров
предпочитал, чтобы публика выводы делала сама. «Обычно я подвожу зрителя к
дверной ручке,— говорил актер,— но открыть дверь он должен сам». И что
небезынтересно: аудитория, сопереживая, даже и не подозревает, что она —
соавтор актера.
«Пантомима,— писал Енгибаров,— прекрасна тем, что заставляет человека думать.
Она как бы доверяет ему и возвышает его в собственных глазах. Подобно рисунку
без подписи, пантомима апеллирует в первую очередь к нашей фантазии, к нашему
чувству юмора. И когда человек угадывает, что ему показывают, он очень
радуется, и эта детская радость сама по себе великолепна».
И в-третьих, заключал он, пантомима позволяет в малом метраже сказать о большом
и важном.
Свое пристрастие к «говорящему безмолвию» Енгибаров обосновывал еще и тем, что
из пяти человеческих чувств зрение самое активное. Наш глаз, говорил он,
«схватывает» во много раз быстрее, нежели ухо. «Я наблюдал: зрители, которые
сидели настолько далеко от сцены или манежа, что не могли слышать без
микрофона, о чем говорят артисты, тем не менее, как только появлялось новое
лицо, впивались в него глазами, стремясь уловить смысл его жестов и поступков».
Интересовала Енгибарова не только практическая работа над бессловесными
миниатюрами, но и проблемы этого вида сценического искусства в теоретическом
плане. И особенно история предмета, жанры, стили, возможности, приемы.
С размышлениями о любимом искусстве встречаешься чуть ли не в каждом интервью артиста.
«Декру (Этьен Декру — известный французский теоретик и практик искусства
пантомимы.) утверждает,— говорил он,— что балет и пантомима не только не брат и
сестра, но и вообще не состоят в родстве. Не знаю, не знаю... Для меня это
достаточно спорно. Но вот что совершенно бесспорно, опять же для меня, так это
то, что пантомима и мультипликация — родные сестры». Не соглашался он и с
методикой тренинга маститого мима. Декру, например, настаивал на том, что
только тело — материал актера, только оно способно выразить все человеческие
эмоции. Лицо же, говорил он, не играет никакой роли. В его студии ученикам во
время занятий прикрывали голову черной тюлевой вуалью, чтобы исключить
мимирование. Енгибаров был убежден, что хорошо развитая мимика — сильнейшее средство
выразительности. Дальше на примере его пантомим мы увидим, какого совершенства
сам он достиг в этой области.
К мысли о кровной близости между пантомимой и «оживленными рисунками» клоун
возвращался постоянно, признаваясь в «своей безумной любви к мультипликации».
Его рассуждения о родстве двух этих видов искусства не лишены своеобразия и
наблюдательности. Енгибаров, в частности, считал, что пантомима и «движущаяся
графика» (кукольные мультфильмы он любил меньше) кладут в основу творчества
один и тог же принцип — обобщенное воспроизведение действительности. И там и
тут, по его убеждению, прибегают к условному языку изобразительных средств, к
фольклорной типизации, к мифам, метафорам, притчевым ходам. И пантомиме и
мультипликации, говорил он, в лучших образцах удается достигать поэтического
обобщения жизненных явлений.
Пантомима — искусство реалистическое в своей сущности, однако она не копирует
жизнь и не воспроизводит ее в бытовой похожести, считал Енгибаров, а лишь
концентрирует самую суть явления. Да, суждение абсолютно верное. Современная
пантомима синтезирует самое характерное, дает, по выражению кинорежиссера
Григория Козинцева, «его как бы алгебраическую формулу». Иллюстрацией этой
мысли может служить новый стиль дизайна, который утвердился в последнее время:
художники изображают фигуры людей — мужчин, женщин, детей, спортсменов,
пешеходов — схематично, выделяя лишь главные признаки.
Большой интерес представляет наблюдение Енгибарова о близости творчества
английского художника Вильяма Хогарта к искусству пантомимы. «Стоит полистать
альбом его (Хогарта) рисунков, как становится ясно: мыслил этот человек
пантомимически,— писал Енгибаров.— С какой виртуозностью передавал он в сериях
гравюр сценки повседневности, выхватывая их из потока жизненных явлений!
«Прилежание и леность», «Карьера Лота», «Судьба пастушки», «Модный брак» —так и
просятся в пантомиму ». Здесь же сбоку приписка карандашом, очевидно, заметка
для себя: «Видеть сюжет в действии, как умел видеть Хогарт». Л вот и признание
самого художника. «Картина была для меня сценой,— писал Хогарт,— мужчина и
женщина — моими актерами, с помощью движений и жестов разыгрывающими
пантомиму».
Язык жестов, считал Енгибаров, способен успешно соперничать с речью, в
искренности во всяком случае. Актер утверждал, что осмысленное безмолвное
действие обладает огромнейшими возможностями. Мим умеет воспроизвести пластикой
гибкого послушного тела целый мир: буйство пламени, произрастание колоса,
поединок с воображаемым удавом, подводное плавание, борьбу с ураганным ветром,
состояние невесомости. Только мим способен передать выразительными жестами и
мимикой, как подкрадывается пума к своей жертве, как вышагивает верблюд, как
балансирует на носу мяч морской лев. Только мим умеет мгновенно перевоплощаться
то в дрессированную лошадь, то в дрессировщика, то в наездника, то в грудного
младенца, то в петуха, то в ручей, перекатывающийся с выступа на выступ...
Что исполнять? — всегдашний вопрос вопросов современного пантомимиста. Дело в
том, что в последнее время требования зрителей к художественной стороне
«клоунской продукции» значительно возросли. И как следствие, образовался
дефицит на хорошие бестекстовые клоунады, интермедии, сценки, репризы. (Каждую
из упомянутых форм клоунской драматургии Енгибаров называл обобщенно «мим-единицей».}
Создать содержательную «мим- единицу» для сольного исполнения или для
клоунского дуэта чрезвычайно трудно: она обязательно Должна быть решена, как
считал актер, в яркой образной форме, должна быть затейлива по приему,
интересна зрелищно, современна по духу. Но притом утверждал, что клоунская
пантомима вряд ли займет на манеже видное место, если в ней не проступает со
всего определенностью значительная мысль, интересная сегодняшнему зрителю.
Литераторы-профессионалы таких сценок без текста почти не пишут: слишком
капризна эта форма, слишком специфична. Чтобы пантомима получила сценическую
жизнь, надо, как говорится, нутром чувствовать законы клоунского действа,
обладать клоунским мышлением. Поэтому лучшие номера придуманы самими клоунами: Алексеем
Сергеевым (Серго), Юрием Никулиным, Андреем Николаевым и, конечно же, Леонидом
Енгибаровым. Он четко сформулировал основные требования к хорошей
«мим-единице»: сюжет не должен быть сложным, рассматриваемую тему следует
заключить в оригинальную оправу. «Весь секрет «мим-единицы» в правильной
ситуации, такой, при которой слова не нужны. Придумать такую ситуацию, где
безмолвие органично, особенно в комическом плане, и есть самая трудная задача».
В своих статьях и высказываниях Енгибаров повторял одну и ту же мысль:
пантомима должна быть понятной. Плоха та миниатюра, содержание которой нужно
отгадывать как ребус или кроссворд. Значит, авторы что-то «не учли». Либо
недостаточно ясен сюжет, либо в его сценической реализации упущено что-то
важное. Здесь не должно быть никаких недомолвок. Все внятно, все определенно.
Требуется отбор жестов, поз, мизансцен.
Произнесенное слово или написанное сразу же вызывает в нашем сознании вполне
определенное понятие. А вот жестикуляция мима требует от зрителей, по верному
замечанию Марселя Марсо, мысленного напряжения, с чтобы перевести ее».
Французский мим многократно говорил о «понятном миме», то есть о том, чтобы
безмолвная речь актера усваивалась публикой с той же точностью, что и слова. А
ведь на практике сплошь да рядом бывает, что неопытный мим рисует в
пространстве какие-то иероглифы, которые озадачивают публику так же, как
нерасшифрованные письмена древних.
«Такой пантомимист,— иронизировал Енгибаров,— хочет сказать со сцены, что его
персонаж накладывает раствор и ведет кладку кирпичной стены, а зритель думает,
что артист намазывает хлеб маслом...». Требуя от пантомимы «абсолютной
прочитываемости», он ссылается на французского карикатуриста Жана Эффеля,
который утверждал, что хороший рисунок понятен и без подписи.
«И я с ним согласен» В пантомиме «подпись» должен делать сам зритель».
Некоторые мастера «многоговорящего молчания» используют в своих номерах
реквизит, кто в большей, кто в меньшей степени. Что касается пантомимы,
исполняемой на эстраде, то Енгибаров относил себя к сторонникам «чистого
действия». Краснодеревщик, говорил он, чтобы сделать красивый шкаф, использует
большой набор самых различных инструментов; скульптору, чтобы создать образ, не
обойтись без глины, гипса, мрамора, комплекта резцов. Не так у мима.
Собственный метод создания безмолвных миниатюр он уподоблял творчеству
сказителя. «Мы оба складываем образы «из ничего и ничем», они — плод нашей
фантазии, нашего жизненного опыта, нашей памяти, знания «технологии своего
производства». Материал сказителя — голос, интонации, речевая ритмика, мой
материал — телесная пластика и мимика лица. И оба мы обязаны виртуозно владеть
своим «инструментом.
Таким инструментом и одновременно материалом творчества было его
натренированное, удивительно выразительное тело, его отточенная мимика и
горячее сердце. Из этого материала он и лепил свои образы, наделяя их разными
характеристиками, поступками и строем чувств. Его «рассказы без слов» всегда
были озарены живой мыслью.
Вот уж к кому благоволила Талия, муза комедии, так это к Леониду Енгибарову! Не
иначе как с ее помощью стал он выдающимся клоуном-мимом. Недаром газета
«Советская культура» назвала его «одним из лучших в мире мимических талантов».
Сам же этот волшебник цирковой арены придерживался иного взгляда: на музу
надейся, а сам не плошай. В исключительной, из ряда вон выходящей
работоспособности и состоял секрет его огромного успеха.
Создатель Камерного театра А. Я. Таиров уподоблял тело пластически развитого
актера скрипке Страдивари. Если бы этому замечательному режиссеру довелось
увидеть Енгибарова на цирковом манеже или на эстраде, думается, он с полным
правом адресовал бы свое сравнение ему.
После окончания циркового училища молодой артист тренировался с еще большим
упорством, энергично развивал пластическую технику, настойчиво постигал
возможности собственного тела, стремясь сделать из него надежный инструмент
выразительности. Буквально каждое утро, без каких-либо пропусков, как говорил
он сам, по десять- пятнадцать раз «повторяю то, что умею делать, и по пятьдесят
то, что не умею, но собираюсь показать зрителям». Такова цена, какой
приходилось расплачиваться за совершенство.
Артист ставил перед собой задачу — так вымуштровать свой психофизический
аппарат, чтобы он стал, по его словам, «послушен, как хорошо выдрессированный
пудель». Клоунская пантомима—одно из самых условных искусств. А чем условнее
искусство, тем большего технического мастерства оно требует. Енгибаров,
нашедший в пантомиме свое призвание, отдавался тренировкам с присущей ему
страстностью.
Однако напряженные занятия далеко не всегда вызывают чувство удовольствия.
Частенько упражняющемуся приходится преодолевать немалое внутреннее
сопротивление. Организм наш — порядочный хитрец: придумывает десятки уверток. А
ты, внушал Енгибаров своим ученикам, даже через боль преодолевай его ухищрения,
понуждай себя через «не охота». В цирковом деле успеха можно добиться лишь
предельным напряжением всех сил, как в большом спорте.
О неистовых тренировках Леонида Енгибарова рассказал на одном из вечеров, посвященных
жизни и творчеству прославленного артиста, мастер арены старшего поколения В.
Г. Херц: «Однажды я вернулся за вещью, забытой в гардеробной, и увидел в
опустевшем цирке при тусклом свете «служебки» Леню. Он усердно тренировался. Я
был крайне изумлен и спросил: «Зачем после такого трудного выступления вы еще
изнуряете себя? Не лучше ли утром, на свежие силы?» Енгибаров улыбнулся и
ответил: «А утром само собой. Сейчас же мне важно видеть публику».
Я не совсем понял: «Что вы имеете в виду?» И тогда он спросил: «Кресла видите?»
— «Да, вижу».— «Амфитеатр видите?» — «Вижу». «А публику?» — «Вот публику,
простите, не вижу.— «А я вижу...»
Во время тренировок клоун-мим любил импровизировать под музыку на темы,
придуманные с ходу или предложенные друзьями. Послушное тело «само» находило
выразительнейший рисунок для передачи содержания этюда. Необыкновенная
фантазия, отлично развитое внутреннее видение и «мастерство, вошедшее в кровь»
помогали артисту превращать живые импровизации в радостные мгновения или, по
его собственным словам, в праздник души.
Енгибаров не только усердно вырабатывал свою пантомимическую технику, но и
зрело рассуждал о тонкостях безмолвной лексики. Любопытны его соображения на
этот счет: «Таежный зверек куница рождается с эластичным туловищем, анаконда от
природы гибка. Человеческая плоть, в противоположность им, инертна и
непластична. Наша задача разработать или, как я говорю, рас-шар-ни-рить свое
тело, сделать его предельно податливым и гибким, точно у куницы».
Не раз излагал он свою точку зрения на возможности жестикуляции: в жизни жесты
употребляют все. В большинстве случаев они мелки. На арене при круговом обзоре
жесты предназначены для большого пространства, поэтому их отличает подчеркнутая
выразительность: они шире бытовых, четче и определенней. Цирковой жест отобран
из многих возможных. «Жест не должен «помогать говорить», он должен помогать
мыслить»,— записал цирковой пантомимист в свой блокнот слова выдающегося
деятеля театра С. М. Михоэлса.
Енгибаров-режиссер был серьезно озабочен «инструментовкой» бессловесного
движения. Ведь одно и то же понятие «произносится» по-разному. Призыв «подойди
ко мне» можно «сказать» одним пальцем, а можно и обеими руками, и всем
корпусом, и едва заметным движением глаз. Пантомимическое действие, утверждал
он, наиболее ярко передается с помощью активных глаголов: «ударил», «вырвал»,
«оттолкнул», «разодрал», «выгнал», «отбросил», «растянул». Эти соображения не
лишены определенного интереса, поскольку исходят от вдумчивого практика.
Многочасовыми упражнениями Енгибаров добился такой же поразительной гибкости
рук, с какой прима-балерина изображает трепет крыльев умирающего Лебедя. Но
важнее артист считал подвижность ног: «Многие примеры убедили меня, что
виртуозно владеть пластикой тела — это, конечно, важно, но гораздо важнее для
комика выразительные ноги». И действительно, когда вспоминаешь игру таких
популярных артистов сцены и экрана, как Сергей Мартинсон, Сергей Филиппов,
Владимир Зельдин, Андрей Миронов, Вячеслав Полунин, то начинаешь понимать: «красноречиво
говорящие ноги» — это могучая сила комедийного актера.
Впрочем, свидетельство тому находим и в практике мирового цирка. Вот как,
например, Эдуард Басе, автор замечательной книги «Цирк Умберто», описал
пластическую технику шведского клоуна Отто Кройгера: «Он умел на сотню ладов
ходить, шагать, переступать и появляться: ноги его поднимались, выдвигались,
болтались, подкашивались, волочились, ползли, шатались, хромали, вздрагивали,
упирались, заплетались... обе одинаковым образом или каждая на свой манер».
Поставив перед собой цель — так вытренировать свои ноги, «чтобы они послушно и
ярко выражали любые эмоции», Енгибаров упорно шел к этой цели и научил-таки их,
по его шутливому замечанию, «искусно жестикулировать». В этих словах не было ни
капли преувеличения. Его ноги становились то непослушными, как разболтанный
механизм, то необычайно поворотливыми и ловкими, то по-утиному неуклюжими, то
пружинисто-резвыми, выписывавшими забавные вензеля. И эти же ноги сохраняли
устойчивость в сложнейших позициях. Клоун-мим, которому удалось с помощью
специальных упражнений сделать свое тело эластичным, отзывчивым на каждое
режиссерское требование, «способен изображать любые комические характеры,
мгновенно переключаясь с одного на другой». Енгибаров считал, что техника
пантомимы как нельзя лучше помогает комизму, позволяет создавать методом
моментальной зарисовки смешные характеры, действующие в смешных ситуациях. Он
говорил: «Клоун-мим, в отличие, допустим, от гимнаста, умышленно разрушает
пластические каноны, разрушает гармонию, сознательно все делает со знаком
минус». Для чего? Чтобы казаться непластичным. Но делает это художественно, не
нарушая чувства эстетического. Споткнись на манеже гимнаст — конфуз, спотыкание
же клоуна-мима — лишний штрих к его пластико-комедийной характеристике.
С искусством пантомимы Енгибаров был связан как цирковой клоун и как артист
эстрады. Выступления эти почти не пересекались, поскольку имели различный
характер. О работе на манеже говорилось достаточно много. Теперь речь пойдет об
эстрадных выступлениях, начало которым было положено в Праге, в 1963 году.
Десять лет спустя чехословацкие друзья Енгибарова выпустили в свет небольшой
сборник воспоминаний «Клоун из Еревана». На страницах этого сборника основатель
и бессменный руководитель пражского театра пантомимы «На забрадли» Ладислав
Фиалка рассказал о том, что во время гастролей Армянского цирка в Праге он и
группа его актеров пришли за кулисы, чтобы поблагодарить блистательного клоуна
«Ни слова», как его называли пражане. В разговоре выяснилось, что они уже давно
с интересом следят за творчеством друг друга. «Леонид,— пишет Фиалка,— не
обращая внимания на тесноту гримировочной каморки, увлекся и сыграл несколько
своих пантомим. И тогда возникла мысль — показать на сцене нашего театра целую
его программу».
Спустя несколько лет театр Фиалки приехал в очередной раз в Москву с новым
спектаклем «Фюнамбюль-77 ». Я встретился с прославленным мимом, теперь уже
народным артистом ЧССР, и он охотно дополнил свои воспоминания многими подробностями:
«В тот вечер нашего очного знакомства я сказал Леониду: «Вы не только клоун, вы
артист пантомимы самого высокого класса». И я горжусь, что его первый сольный
концерт состоялся на маленькой сцене нашего театра и что я был его «крестным
отцом». Помню, что он попросил выделить на афише два слова: «Импровизация.
Метаморфозы». Концерт происходил в ночное время, после нашего спектакля, и
длился более двух часов. Публика собралась, что называется, отборная. И она
увидела пантомиму в новом качестве. Леонид привнес в нее, образно выражаясь,
аромат цирка. В тот вечер был заложен фундамент новой школы пантомимы —
енгибаровской. И я сказал ему тогда: «Леня, дорогой, переходи в «нашу веру»— в
пантомиму». Но он только отшутился. Считаю тот вечер в некотором роде историческим
и для нас и для него самого».
Располагаем мы и другими свидетельствами огромного успеха Енгибарова в театре
«На забрадли». «Актеру уже пора было отдохнуть, а он все показывал номер за
номером,— вспоминал популярный чехословацкий певец Вольдемар Матушка.— Пот
ручьями лился с него — тяжелый адский труд! Это все воспринималось как чудо.
Присутствующие были удивлены и восхищены. После представления плотная толпа
прижала его к стене и аплодировала и требовала автографов». А вот что пишет
чехословацкий драматург, режиссер и актер Иржи Сухи: «В театре «На забрадли»
Енгибаров предстал перед нами как гениальный мим (совершенно не боюсь
употребить это слово)».
Итак, можно с полной определенностью констатировать, что признание Леонида
Енгибарова как профессионального мима произошло в Праге, в 1963 году.
Год спустя, зимой 1964 года, в столице Армении проходил фестиваль «Ереванские
музыкальные дни». 1 декабря на сцене Большого концертного зала филармонии в
отделении «Молодые голоса» Енгибаров выступил с полуторачасовой программой. В
течение этого времени он оставался один на один со зрительным залом. Публика
восторженно приняла забытое искусство молчаливого красноречия, возрожденное
цирковым актером. Те, кто уже успел встретиться с даровитым коверным на манеже,
были приятно поражены, увидев своего любимца ,в неожиданном качестве, те же,
кто обычно не посещал цирковых представлений, решили изменить своим
художественным пристрастиям ради артиста, который очаровал их изящным
мастерством на филармонической сцене.
Таким образом, этот в высшей степени успешный дебют, чрезвычайно важный для его
творческого самоутверждения, положил начало регулярным сольным концертам
Енгибарова в эстрадном жанре. Тогда же родилась и форма этих выступлений —
«Вечера пантомимы», которые с тех пор показывались в каждом городе, где
гастролировал Армянский коллектив. Правда, нередко мим сталкивался с
характерным для того времени явлением: большая часть зрителей, впервые
встречаясь с новым для себя искусством «безмолвного красноречия», не понимала
его условный — без текста и музыки — язык и потому оставалась эмоционально
безучастной. Енгибарову приходилось знакомить зрительный зал с азбукой этого
искусства — показывать сначала так называемые «стильные упражнения».
Немного позднее на афише появился подзаголовок — «О смешном и грустном»,
который обобщенно аттестовал содержание программы. Более того, характеризовал
творческое направление, какому отныне будет следовать артист как на эстрадной
площадке, так и на цирковой арене.
Пантомимические миниатюры, которые он показывал на эстраде,. значительно
отличались от интермедий, исполняемых на арене; у них была разная форма и
разное содержание, разная стилистика, пластические средства, мизансценирование.
Сам актер четко говорил, что «цирковая пантомима подчиняется совсем иным
законам. На эстрадной площадке могут иметь место полутона, в то время как на
кругу арены нужны вполне определенные краски, нужен укрупненный жест, более
выразительные ракурсы». Цирковому миму часто приходится подчеркивать действие и
свои эмоции. В номерах эстрадного пантомимиста доминируют психологические
нюансы; его сценическое поведение и сценки гораздо тоньше. В цирковом спектакле
у героя Енгибарова — уже сложившийся характер, который действует в различных
предлагаемых обстоятельствах. В эстрадной же пантомиме нет постоянного героя.
Там каждая сценка разыгрывается персонажами согласно сюжету.
За десять лет пантомима Енгибарова претерпела заметную эволюцию: от пустячков и
шуток вроде «Тяжелоатлета», герой которого закручивал вокруг своей шеи штопором
многокилограммовую штангу, до миниатюр, звучащих философски.
Часть сюжетов, по его словам, подсказана опытом жизни. Детские годы, когда
память цепка и все впечатления обострены, пришлись на тяжкую военную пору.
«Отсюда вышли мои пантомимы «Человек, с которым я вместе воевал», «Тотальная
мобилизация», «Жизнь ребенка»,— сказал Енгибаров в интервью «Литературной
газете».
«Тотальная мобилизация», решенная в эстетике политического плаката, потребовала
особых средств выражения: во-первых, лаконизма; во-вторых, броскости; в-
третьих, некоторой окарикатуренной трактовки персонажей, что, в общем-то, не
шло вразрез со стилистикой мима. К шаржированию действующих лиц он прибегал и в
других комедийных зарисовках, например в «Тяжелоатлете», «Укротителе».
«Тотальную мобилизацию» сам автор характеризует как «рассказ о фашизме,
превращающем людей в животных, напоминание о том, что война не должна
повториться». В этой содержательной пантомиме актер двумя-тремя штрихами
набрасывает портреты резервистов, которые незадолго до краха гитлеровского
режима явились на призывной пункт — один калека, другой слепец, третий болен
туберкулезом, четвертый эпилептик — словом, поскребыши. Распоряжается ими
фашистский генерал. И наконец, главное действующее лицо — мальчишка, в общем,
ребенок, ему одному и приходит в голову вонзить свой штык пониже генеральской
спины. Своеобразным эпиграфом к этой развернутой пантомиме могло бы стать
известное изречение: «Устами младенца глаголет истина». Мальчишка — в некотором
смысле двойник того литературного героя, который в андерсеновской сказке
выкрикнул: «А король-то голый...»
На коротком отрезке времени актер воссоздавал несколько человеческих
характеров. Этот тип пантомимы Марсель Марсо относит к «многоликим». Такого
рода миниатюры требуют умения делать мгновенные, легко угадываемые портретные
зарисовки самых различных персонажей и притом давать им меткую характеристику.
Своих героев актер изображал с помощью самых скупых средств; он не употреблял в
эстрадных выступлениях ни реквизита, ни бутафории, ни париков, ни носов, ни
каких- либо других накладок. Использовалось лишь могущество выразительных
средств, накопленных пантомимой на ее долговременном пути — многоговорящая
пластика и мимика.
Сюжет «Тотальной мобилизации» мог быть реализован только на эстраде. Для
другого сценического воплощения понадобились бы другие средства и другая
структура. В своих записках Енгибаров говорит, что ему неоднократно предлагали
перенести эту остросатирическую антивоенную пантомиму на манеж. Но он не
соглашался: в манеже, при круговом обзоре, считал он, многое осталось бы
непонятным публике, исчезли бы мимические нюансы, зрители не смогли бы
улавливать условные переходы от одного образа к другому, а именно в них самая
суть сценки. «Если же прибегнуть к переодеванию,— пишет Енгибаров,— если взять
в руки бутафорскую винтовку со штыком, то сразу пропадет очарование жанра.
Пантомима станет неуклюжим скетчем». Защищая свое пристрастие к воображаемым
предметам в эстрадной пантомиме, Леонид приводил в качестве довода пример из
шуточной сценки «Укротитель», в которой он выворачивал иллюзорного тигра,
словно чулок, наизнанку. «Если помните,— говорил артист,— еще барон Мюнхгаузен
проделывал нечто подобное с волком, мы читали и смеялись. Смеются и в моем
«Укротителе», А теперь представьте себе на минутку, что тигр живой... Стало бы
это комично? Вряд ли. Скорее, отвратительно». Моментальное превращение то в
женщину, то в ребенка, то в любителя поупражняться в меткой стрельбе по мишеням
базарного тира, то в художника-абстракциониста — сильная сторона этого мима.
Вот его голова ушла в плечи, ссутулилась спина, отвисла нижняя челюсть, погасли
глаза — и перед нами конкретный персонаж.
В некоторых эстрадных миниатюрах он использовал световое сопровождение и
музыку, которой отводилась активная роль. «Музыка,— говорил он с улыбкой,— это
мой заведующий эмоциями». Создание фонограммы всегда было для него делом
наисерьезнейшим. Разрабатывалась своя партитура: от подбора музыкального
материала до таких подробностей, как смена ритмов, акценты, паузы, микширование
звука; все было подчинено главной задаче — художественному углублению сюжета.
Некоторое представление о функции музыки в композиции енгибаровской эстрадной
пантомимы, о ее продуманном использовании может дать, например, социально
острая сценка «Мольба» (иногда ее называют «Безработный в храме»).
...Звучит органная музыка. Ока сразу же вводит нас в атмосферу католического
храма. Наша фантазия дорисовывает обстановку: высокие, гулкие своды, витражи,
благостные лики святых... Идет богослужение. От всего отрешенный, человек
молится. Он захвачен таинством общения с богом. Глаза обращены к небу, губы
что-то шепчут. По всему видно — к милосердию небес взывает бедняк, предельно
отчаявшийся... Наверно, он уже давно вот так вымаливает послабление в своей
тяжкой доле. И мы, зрители, понимаем его мольбу. «Разве ты не видишь, боже, как
мне тяжко... Непереносимо. Мочи моей нету»,— как бы говорит вес его существо.
Однако жаркая молитва не услышана: уж очень много таких, как он...
В этом месте Енгибаров вводил скорбный хорал, в музыкальной теме которого
звучит нарастающая угроза. Молящийся уже не без некоторого раздражения
пускается пылко убеждать всевышнего, как убеждал бы своего земного хозяина,
который вышел на балкон роскошного особняка: «Пойми же наконец — за душой ни
гроша, на кухне хоть шаром покати, а дети... их же целая куча, они же просят —
«дай»!... Как истый южанин, он выразительно жестикулирует, и мы явственно видим
его шумных ребятишек мал мала меньше... Но вот на лице молящегося новое
выражение — недобрый укор небесам. «А жена моя... уж кому-кому, но тебе-то,
всевидящему, должно быть известно, ведь она опять на сносях... Ну помоги же
нам! Облегчи нашу горькую участь!...»
Хочешь облегчения? Тогда раскошеливайся. Служители культа ловко выуживают у
прихожанина все до последнего гроша — то на свечи давай, то на церковь жертвуй.
И теперь бедняге остается одно — присоединиться с протянутой рукой к нищим на
паперти.
Пантомима глубоко эмоционально передала общественно значимую мысль о том, что в
мире, где царствует чистоган, участь человека из народа — всю жизнь
подвергаться безжалостным поборам. И тут уж напрасно уповать на божескую
милость.
Позднее Енгибаров поменял концовку, придав ей оптимистическое звучание. Музыка
прекращалась. В звенящей тишине бедняк гневно сжимал кулаки и грозил своим
притеснителям: «Ну, смотрите! Дойдет и до вас очередь!»
«Мольба» — одна из лучших эстрадных пантомим в репертуаре Енгибарова. В ней
артист передавал разнообразную гамму чувств: покорность, отчаяние, нарастающее
раздражение, вспышку гнева, решимость. Все это производило сильное
художественное впечатление. Актер захватывал и убеждал выразительной пластикой,
богатой мимикой, а главное — искренностью переживаний.
В одной из рецензий критик, говоря о необыкновенной выразительности
енгибаровского лица, сравнивал его с маленьким стереоэкраном, на котором
«отчетливо видно рождение мыслей и чувств». В последнее время артиста
интересовали главным образом сюжеты с глубоким содержанием, сюжеты философской направленности.
В этом отношении показательна миниатюра «Да здравствует солнце, да скроется
тьма!» (Пантомима вошла в репертуар Енгибарова незадолго до его безвременной
кончины.) Для этой миниатюры также была разработана музыкальная партитура,
основой для которой послужили произведения Рахманинова. Потребовалась и сложная
световая аппаратура.
Действие начиналось прозрачно и безоблачно — игрой- забавой лирического героя
пантомимы с воображаемым партнером — ребенком, возможно, это сын, а может,
просто мальчишка со двора.
Им весело вместе. Они боксируют — взрослый ведет бой, стоя на коленях,— потом
радостно гоняют мяч, мчатся на велосипедах, стараясь перегнать друг друга,
гребут веслами. Но вот старший замечает, как откуда-то сбоку медленно
надвигается к ним темная полоса. Человек видит ее, но поначалу не придает
значения. И продолжая развлекаться с малышом, катает его на себе, изображая
лошадку.
В музыке слышатся тревожные ноты, они вселяют в зрителей какое-то беспокойство.
Теперь уже герою не до игры. Темная, холодная тень запивает половину сцены
мраком, неумолимо надвигается на них. Человек загораживает ребенка. И вдруг
замечает, что тьма приближается к ним и с другой стороны. Он испуганно пятится.
Но черное кольцо смыкается. Они стоят вдвоем — взрослый и ребенок — на
крошечном светлом пятачке — пятачке жизни... Драматическое звучание музыки
рождает смятение, чувство обреченности, неотвратимости беды... Враждебная тьма,
словно некий символ зловещего сокрушения, медленно ползет вверх по ногам
людей... И в этот решающий миг человек собирает все мужество, всю волю.
Энергично выставив руки вперед, преграждает путь чудовищной тьме. Изо всех сил
пытается оттеснить от себя черное кольцо, освободиться от погибельного
нашествия. И когда кошмарный круг тьмы уже у самого горла, человек невероятным
напряжением освобождается от неумолимых объятий смертного мрака, как мифический
Самсон от цепей. Герои раздвигает кольцо черного ошейника и, отчаянно натужась,
вытесняет его в жестокой борьбе из пределов сценической площадки. И вот она вся
уже залита ярким светом. Освобожденный человек поднял на руки ребенка. Ликующая
музыка торжествует победу — «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»
Художественный прием, положенный в основу сценической трактовки этой
миниатюры,— не изобретение Енгибарова. «Поединок с несуществующим противником»
издавна используется в мировой пантомиме: от комической сценки «французская
борьба с самим собой» и до единоборства с хищным зверем. Но схватку с видимым
врагом — пусть даже таким условным, как тьма—впервые, кажется, ввел автор этой
миниатюры. И в этом ее новизна.
Енгибаров рассказывал мне, как трудно было найти техническое решение «поединка
с тьмой»: не удавалось Добиться нужного эффекта. Долго искал он вместе с
опытными электриками оптимальный вариант: экспериментировали то с одним
источником света, то с другим, меняли оптику и место расположения аппаратуры.
Пришлось даже изобретать специальные шторки.
Енгибаров говорил, что идея миниатюры подсказана сюжетом мудрой сказки
Андерсена, в которой злонравная тень, уйдя от своего хозяина, добропорядочного
ученого, приносит ему глубокие душевные страдания. Артисту давно хотелось дать
сценическую жизнь этому философскому произведению, полному безысходной горечи.
Однако техническое воплощение оказалось столь сложным, что не позволило
реализовать задуманное впрямую.
Образ тени — двойника человека — постоянно будоражил фантазию Енгибарова. Еще в
бытность его боксером ему случилось провести немало поединков с воображаемым
противником — своей тенью. (В боксе среди учебно- тренировочных упражнений есть
прием — «Бой с тенью», с помощью которого совершенствуется техника ударов и
защиты,) Позднее Енгибаров напишет теплую лирическую новеллу «Тень», нечто
вроде стихотворения в прозе.
Миниатюра «Да здравствует солнце!» говорила о духовной и художнической зрелости
мастера, в творчестве которого четко наметилась тенденция привлекать в качестве
исходного материала темы общественно значимые. В том же плане был и сюжет
задуманной пантомимы "Земной шар». Ее содержание сводилось к тому, что
человек держит на плечах планету, в данном случае материализованную в виде
огромного светящегося глобуса- (Пожалуй, это первый случай, когда артист решил
отступить от своего правила: не прибегать в эстрадной пантомиме к бутафории.)
Испытывая глубочайшую ответственность за судьбу планеты, человек бережно
проносит ее через все превратности бурно текущей жизни, через все перипетии
нашего неспокойного времени, К сожалению, осуществить свой замысел артист не
успел...
Предмет особого интереса и почитания Енгибарова — комическая пантомима. Он
говорил: «Пантомима для меня искусство обязательно веселое, обязательно
жизнерадостное и обязательно смешное». Комедийным номерам отводил в своем
репертуаре основное место. Даже в драматические сюжеты умудрялся вкрапливать
улыбки.
Прежде чем приступить к рассмотрению творческого почерка Енгибарова как
пантомимиста, поговорим о клоунской пантомиме вообще. Какими признаками она
характеризуется?
Первое — сознательный отказ от речи. Второе — мышление действием. Как это
понимать? Клоун-мим выражает мысль безмолвным действием. Но не всяким, а лишь
строго отобранным, кратким, динамично развивающимся во времени и сценическом
пространстве, рассчитанном па визуальное восприятие. Ведь пантомима — это, по
определению Енгибарова,— рассказ о жизни, переданный пластически отточенным
движением.
Третий признак — особая форма драматургии бессловесных сценок, интермедий,
реприз, трюков. И особая их образная структура. Главное здесь — лаконизм.
Содержание сценок предельно сжато и чаще всего ограничено какой-нибудь одной
мыслью, подаваемой фронтально. Развитие сюжета экспрессивно. Временная
продолжительность минимальная: десять минут уже многовато. Форма, ритм, темы,
мотивировки могут быть при этом самыми различными.
Не так давно существовал еще один признак: наличие в клоунской сценке смеха.
Ныне это необязательно. Леонид Енгибаров и отчасти Олег Попов внесли в этот
канон существенные коррективы: они первыми создали в цирке несмешные
пантомимические сценки, которые при этом обладали высокими художественными
достоинствами и не противоречили жанру клоунады, а, напротив, расширяли его
видовые возможности, обогащали новыми красками. И все же комедийность серьезно
заботила Енгибарова. Его мысли на этот счет и в особенности но поводу метода,
каким клоун-мим вызывает смех, представляют немалый интерес. Тем более что
соображения эти актуальны и сегодня, когда на манеже ощущается явная нехватка
смешного — веселых шуток, потешных фортелей, острых реприз, комических
проделок. Впрочем, еще Корней Иванович Чуковский, большой любитель искусства
смелых и веселых, выразил мнение многих зрителей: «Смешного в цирке надо давать
гораздо больше. Может быть, чуть-чуть ущемив акробатов, которые, мне кажется,
занимают слишком большое место в программах».
С годами требовательность к смеху у Енгибарова возросла. Он отказался от ранних
ударных сценок «Тяжелоатлет », «Художник-абстракционист», «В столовой
самообслуживания», хотя они и вызывали неизменное веселье. Но миниатюру
«Укротитель», созданную еще в студенческую нору, оставил и постоянно оснащал
свежими деталями-находками.
Тема «Дрессировщик животных» использована многими пантомимистами, в том числе и
Марселем Марсо. Французский мим строит свою сценку на неожиданном контрасте: он
играет дрессировщика- неудачника. В его исполнении это жалкий размазня, который
на коленях умоляет царя зверей прыгнуть в кольцо. У Енгибарова укротитель
другого нрава; он властен, уверен в себе, даже, пожалуй, самоуверен. И эта
черта стала комической краской в его характеристике. Хищники у него, что
называется, ходили по струнке. Все шло своим чередом. И вот коронный трюк:
энергичным рывком укротитель разверзал львиную пасть, подобно бронзовому
Самсону (центральная фигура в каскаде фонтанов в Петродворце). И в ту же
секунду с отвращением отворачивается — фу-у, ну до чего же тяжелым духом
пахнуло из глубин звериного чрева... Но делать нечего, надо продолжать номер.
Дрессировщик зажмуривал глаза и — была не была! — протискивал голову сквозь
частокол острых зубов. Л когда с поспешностью высвобождался из чудовищной
пасти, то по его гримасе было видно, до какой степени омерзительно там... И
вдруг укротитель обнаруживал, что у него пропал головной убор. Куда же он
подевался? Его осеняла страшная догадка: шапка там... в темной клыкастой пещере.
С отчаянием самоубийцы незадачливый Самсон опять растягивал львиную пасть. Там
ни зги! Сокрушенно вздыхал — ничего не поделаешь, придется лезть — и, запустив
руку по самое плечо в звериную глотку, грозный повелитель хищников принимался
шарить где-то в лабиринтах львиной утробы. Но, увы, тщетно. Как же быть?..
Сколько раз доводилось мне- видеть эту миниатюру, но как только доходило до
эпизода со спичками, неизменно восхищался счастливейшей режиссерской находкой.
Укротитель совершенно по- бытовому доставал из кармана коробок настоящих
спичек, зажигал одну из них и при ее мерцающем свете долго, и так и этак,
высматривал пропажу...
Сценка всегда вызывала дружный смех. Чем же он достигался ? Какова его природа
? Здесь действовало одно из положений эстетики комического, а именно —
отклонение от идеала. В глазах публики профессия укротителя хищных зверей
героическая. Цирковая арена и киноэкран приучили нас видеть в дрессировщике
человека мужественной красоты, волевого, исполненного предельного
самообладания. Его образ окружен ореолом романтики. И вдруг такое
несоответствие нашим представлениям. Поступки енгибаровского персонажа, как и
персонажа Марселя Марсо, отклонялись от норм профессии. И в самом деле, разве
не смешон в роли укротителя человек Марсо, робкий и трусливый, или
самоуверенный енгибаровский недотепа, который потерял головной убор в львином
зеве, а затем пустился столь нелепым способом искать его... Происходило
комическое снижение возвышенного.
Обязательным условием для смешной клоунской пантомимы является наличие
комического характера и комической ситуации. В качестве исходного материала
избирается персонаж, чье поведение не соответствует общепринятым канонам.
Действует он в необычной обстановке, выпадающей из устоявшегося режима,
действует эксцентрически. При этом телесная пластика и мимика обязательно резко
акцентированы.
Комический характер складывается в «мим-единице» по тем же законам, что и в
карикатуре. И художник и мим пользуются заострением рисунка, и тот и другой
выделяют в натуре отрицательные свойства и подают их в преувеличенном виде,
делая образ более заметным. Однако преувеличение не должно нарушать жизненной
достоверности и быть излишним, это может разрушить комический эффект. Чувство
меры здесь имеет решающее значение.
Чтобы полнее исследовать форму комедийной пантомимы, рассмотрим старинную
сценку, типичную для эстрады прошлых лет. Мим изображал дьякона, отправляющего
богослужение; он истово взмахивал кадилом, осенял крестом молящихся и вдруг
замечал — на полу сверкнула серебряная монета. И начиналась отчаянная
внутренняя борьба: с одной стороны, религиозные чувства, которые строжайше
предписывают презрение ко всему земному, а с другой — соблазн завладеть
деньгами. Побеждала алчность. Продолжая креститься, священнослужитель озирался
— не видят ли другие? Нет, кажется, все поглощены молитвой. Он осторожно
приближался к искусительно сверкающей монете, нагибался и подхватывал ее: «Фу
ты, черт!» — говорило его лицо. И дьякон брезгливо вытирал пальцы о рясу...
Смех достигался столкновением высокого и низменного: высокий сан служителя
культа и мелочность скряги. Сценка показательна не только тем, что в ней
соблюдены все признаки комедийной пантомимы (комический характер, комическая
ситуация и содержание раскрыто исключительно средствами пластической
выразительности), но и тем еще, что ее можно рассматривать как образчик
идеальной пантомимической формы: в ней в высшей степени органично молчаливое
действие и очень четко выражена мораль.
Комический характер в пантомиме отражает обычно какую-либо преобладающую черту:
в «Укротителе», например, излишнюю самоуверенность, в «Монете» — крохоборство,
в «Художнике-абстракционисте» — заумь, в «Тяжелоатлете» — фанфаронство. По
тому, как артист характеризовал своих героев, их нельзя причислить к разряду отрицательных,
хотя, конечно, и положительными не назовешь.
Тот смех, который раздается по адресу незадачливого тяжелоатлета или
недотепистого укротителя, принято относить к категории насмешки. Это не злой,
не обличительный, а снисходительно-добродушный смех.
Другой оттенок у смеха в «Тотальной мобилизации». Ее содержание и форма ,
обусловлены идейной позицией автора. Авторское отношение к персонажам различно:
к рекруту- нацисту и фашистскому генералу — сатирическое, к остальным
действующим лицам — снисходительно-насмешливое. Отсюда и пластические
характеристики, которыми наделен каждый из персонажей.
Иным было восприятие зрителей, смотревших забавную юмореску, которую Енгибаров
называл «Мальчик с персиком». Содержание этой зарисовки несложно — мальчишка с
упоением лакомится спелым плодом, и сладкий сок стекает по его лицу, рукам,
одежде... Такие непритязательные номера существовали в репертуаре пантомимистов
всего мира с незапамятных времен. Основаны эти комические сценки на
подсмотренных в жизни забавных поступках людей. Например, человек ест сочный
арбуз, мороженое или торт с кремом... Актеру остается лишь слегка сгустить
краски, немного окарикатурить рисунок, как того требует жанр комической
пантомимы, и номер готов. Реакцию зрителей на сценки подобного рода можно
квалифицировать как беззаботное веселье.
Комическая пантомима, по определению Енгибарова, сродни сказке, где может быть
и очень смешно, и все абсолютно серьезно, и всегда грустно, несмотря на
счастливый конец». Комическая пантомима рассматривалась им в процессе
эволюционного развития. С жадностью впитывал он любые сведения о ее прошлом,
докапывался, как сам любил говорить, до корня. К истории цирка, и в особенности
к истории пантомимы на манеже, Леонид Енгибаров питал неизменный интерес. Он рылся
в книгах и журналах, охотно вступал в разговоры о прошлом этого искусства, о
тех далеких днях, когда комическое действие без слов еще только утверждалось на
опилочном кругу первого здания, построенного для циркового зрелища, которое
тогда и цирком-то не называлось, а просто амфитеатром.
Любое искусство складывалось под влиянием многих факторов. То же самое можно
сказать и о клоунской пантомиме. На своем долговременном пути она испытывала
воздействие национальных обрядовых празднеств, народного юмора и первых
театральных форм, зародившихся в Древней Греции, таких, например, как мимос
(короткие комические сценки сатирического и развлекательного характера), а
позднее — выступлений бродячих комедиантов и затейливых карнавальных
увеселений.
Авторитетнейшее подтверждение преемственной передачи смеховых традиций от
одного поколения к другому находим в научном труде видного исследователя
старинного и современного театров Г. Н. Бояджиева: «Прямыми наследниками
итальянских комических актеров являются клоуны, до наших дней сохранившие
многие сценические приемы и трюки комедии дель арте». В России источником,
который питал комическую пантомиму, были ярмарочные балаганы — средоточие
задиристого народного смеха. Первые цирки, основанные в Европе в конце XVIII
века, вобрали в себя многие популярные в народе зрелища, в том числе и
комическую пантомиму. Так утвердились На манеже смешные бессловесные сценки,
вошедшие в репертуар клоунов. В развитие этой формы комизма внесли свою лепту
талантливые актеры разных стран. Но два имени следует выделить особо — это
Джозеф Гримальди и Дебюро, хотя ни тот, ни другой и не выступали на арене.
Английский актер Джозеф Гримальди (1778—1837) создал целое направление в
искусстве смешного, сочетая буффонаду, гротеск и элементы драматизма. Необыкновенно
темпераментный и подвижный, он был превосходным акробатом, исполнителем
комических песенок и танцором. Главными чертами клоунской маски Гримальди были
крайняя наивность, доходящая до глупости, и плутовство, простодушие и здравый
смысл. Его выступления отличались неукротимой экспрессией, пластической
выразительностью и богатой мимикой — все это захватывало публику с первых же
минут появления комика на сцене. Джозеф Гримальди остался в памяти потомков как
великий клоун.
Французский актер Жан Батист Гаспар Дебюро (1790— 1846} не был клоуном в прямом
смысле этого слова. Он избрал маску Пьеро, персонажа народной комедии, и широко
использовал приемы балаганного театра. Своим безмолвным сценкам,
преимущественно комического плана, этот мим выдающихся комедийных способностей
придавал содержательность, близкую его современникам. По сюжету разыгрываемых
им сценок, герой Дебюро, вечно враждующий с власть имущими, преследуемый и
нещадно избиваемый, неизменно выходил победителем из всех стычек и бед, которые
без конца обрушивались на его голову. В образе Пьеро, никогда не унывающего
весельчака, находчивого бедокура и лирика, нашли яркое воплощение черты
французского национального характера. В этом, пожалуй, и заключался секрет
огромнейшей популярности Дебюро.
Творчество Гримальди и Дебюро широко отражено в специальной литературе, а также
продолжает жить в актерской среде в виде устных преданий и легенд. Обаяние этих
талантов было столь неотразимо, что они породили массу приверженцев,
развивавших искусство великих мимов. Гримальди и Дебюро сообщили последующим
поколениям артистов тот колоссальный заряд энергии, который питал многие
десятилетия клоунаду на манеже.
К художественным явлениям, воздействовавшим на творчество клоуна-мима, не
впрямую, разумеется, а опосредованно, но закону преемственности и
беспрерывности этого процесса, причислим и европейские театры пантомимы. Все
они носили главным образом комико-фарсовый характер. Расцвет их приходится на
конец прошлого века. По всей Европе разъезжали многочисленные труппы мимов,
которые имели в своем творческом багаже один-два хорошо слаженных и оформленных
спектакля. В жанровом отношении такого рода комическая пантомима по многим
признакам ближе всего к фарсу, старинной форме народного театра.
Классическому фарсу не обойтись без двух персонажей, назовем их плутом и
простаком, или, по аналогии с цирком, рыжим и белым клоунами. Плут и простак
могут изображать самых различных персонажей, могут предстать либо молодыми,
либо старыми; щеголями или, наоборот, босяками; людьми, занимающими высокое
положение, или «людьми воздуха»; темпераментными или бесстрастными, но без этих
двух фигур фарс не состоится. Смех вызывается глупостью простака и хитроумными
проделками плута. Однако случается, что и плут вопреки своим ловким козням
остается в дураках.
Плутни сменялись изощренными погонями, погони — потасовками; за любовной
интрижкой следовала семейная свара, а она в свою очередь оборачивалась
мошенничеством, которое выливалось в новый скандал и разрушения. Недаром слово
«фарс» употребляется иногда с эпитетом «бесноватый».
В фарсовых пантомимах почти все персонажи были наделены исступленной
разрушительной энергией. Комические трюки сыпались, как из сказочного рога
изобилия: едва публика отсмеялась над одним,— а из канвы сюжета возникал
другой.
Самой большой популярностью пользовались пантомимы англичан братьев Ханлон Ли,
обладавших отличной цирковой выучкой и мастерски владевших комическим
безмолвным действием.
Двумя десятилетиями позднее, уже в начале нашего века, лидерство захватил их
соотечественник Фред Карно, носивший негласный титул короля пантомимы. Чтобы
некоторым образом представить себе масштаб его деятельности, побываем в «Депо
пантомимы Фреда Карно».
Итак, Лондон, Кэмберуэлл. Царство смеха. Кузница талантов. Двенадцать трупп, и
у каждой своя программа: бессловесные скетчи, сценки, одноактные комические
пантомимы. Все это представляло собой синтез различных комедийных форм:
буффонады, фарса, бурлеска, черного юмора, сдобренных акробатикой и танцами. Но
общий тон задавала, безусловно, типично английская эксцентрика. «Похитители
велосипедов, бильярдные игроки, пьяницы, поздней ночью возвращающиеся домой;
уроки бокса; человек, мнящий себя певцом; жонглер с неудавшимися трюками» — вот
темы и персонажи, которые являлись содержанием пантомимы Карно, по
воспоминаниям участника спектаклей. Стремительному ритму, сообщавшему силу всем
номерам программы, и здесь придавалось первостепенное значение. Из «кузницы
талантов» вышли десятки видных артистов эстрады, цирка и кино, в том числе я
гениальный Чаплин, и кинозвезда первой величины Лаурель, прославившийся в
комедийном дуэте с толстяком Харди. Впоследствии Чаплин писал, что постановки
Фреда Карно имели «много общего с игрой цирковых клоунов доброго старого
времени» ' . Это свидетельство чрезвычайно важно для нас, ибо является прямым
подтверждением влияния цирка на пантомиму, как и ее в свою очередь на цирк.
Рассмотрим следующий этап развития клоунской пантомимы, который назовем
бумерангом, воспользовавшись выражением Леонида Енгибарова.
Дружба кинематографа с цирковым манежем началась с первых же дней жизни
«великого немого». Клоуны, акробаты, фокусники стали первыми артистами кино.
Хорошо тренированные, наторелые в искусстве движения, мастерски владеющие
пантомимой, они оказались наиболее пригодными — да просто незаменимыми — для
молодой киноиндустрии. Цепкой рукой она брала у цирка, говоря по-сегодняшнему,
не только кадры, но и трюки, приемы, целые антре и номера.
К первой четверти XX века комическая лента настолько преуспеет, что опояшет
весь земной шар. Комедиографы кино создадут уже свои сюжеты, свои трюки,
которые будут называть гэгами, выпестуют своих великолепных комиков - звезд. И
тут произойдет обратный процесс: цирк начнет брать с экрана, причем с немалыми
процентами, кинотрюки, приемы, ходы, заимствовать маски киногероев. На манеже
появятся коверные клоуны в масках Чарли Чаплина, Гарольда Ллойда, Глупышкина,
Пата и Паташона. Бумеранг, описав круг, вернулся в руки бросавшего.
Одновременно внутри самого искусства клоунады происходила постоянная эволюция
форм. На манеже мирового цирка долгие десятилетия господствовала эксцентрико-
акробатическая пантомима. Французский историк клоунады Тристан Реми называет
дату — 1880 год,— «когда пантомима, сопровождаемая диалогом, взяла верх над
акробатической пантомимой». Пройдет некоторое время, и эту форму вытеснит
пантомима музыкальная. А ее в свою очередь — сюжетная. (Название условное.
Пользуюсь им за неимением другого термина.)
Типичным образчиком такого рода клоунской сценки являлся «Часовой и медведь».
Содержание ее сводилось к тому, что офицер ставил на часы у караульной будки
солдата-новобранца, этакого вахлака, которому то ли привиделось с пьяных глаз,
то ли и в самом деле к нему пожаловал топтыгин. На комической возне с медведем
и держалась эта пантомима.
Мода на бездумные, чисто развлекательные сцепки без текста утвердилась на
манеже в начале нашего столетия и продержалась до 20-х годов включительно.
Долгие десятилетия клоунская пантомима была неотъемлемой частью представления в
любом цирке, от столичного до самого бедного, так называемого «одномачтового»
шапито.
Программы по артистическому составу были интернациональными, собирали под
цирковым куполом вес флаги мира. Этим, собственно, и объяснялось
распространение такого искусства, язык которого был понятен везде и всем.
После 20-х годов клоунская пантомима не то чтобы умерла, но, скажем, впала в
летаргический сон. На манеже советского цирка в клоунаде утвердился примат
слова. Лишь некоторые коверные исполняли безмолвные сценки. В 1951 году,
например, начинающие клоуны Ю. Никулин и М. Шуйдин выпустили пантомиму
«Маленький Пьер». Но это были единичные случаи.
Перелом произошел летом 1957 года: в Москве проводился VI Всемирный фестиваль
молодежи и студентов «За мир и дружбу». Среди многих форм зрелищных искусств на
нем была богато представлена и пантомима в виде сатирических заставок в
спектаклях студенческих театров, необыкновенно распространенных тогда, или
самых различных по жанру и стилю миниатюр, или Даже целых пьес, исполняемых
мимами из разных стран. Для советского зрителя эти представления были истинным
художественным откровением.
С того времени, в сущности, и началось широкое увлечение искусством молчаливого
красноречия. Забытый жанр глубоко захватил молодых клоунов циркового училища.
Леонид Енгибаров, которому в дальнейшем будет принадлежать честь возрождения
сольной пантомимы на арене советского цирка, придал ей принципиально новое
звучание, и это отличало молодого артиста от даровитых предшественников 30—50-х
годов: Н. Антонова и В. Бартенева, К. Лерри, Серго, Мусина, Франца и Фрица (Ф.
Томашевский и В. Артамонов), Ю. Никулина и М. Шуйдина.
Высокое профессиональное мастерство, трюковые достижения отдельных
талантов-смельчаков не исчезают бесследно, а становятся теми ступенями, по
которым искусство поднимается к своим вершинам. Богатейшие накопления прошлого
— мощный стимулятор для творческих поисков наших современников, что так
блестяще подтвердил герой этой книги, сообщив старинным антре «Бокс» и «Статуя»
свежее волнующее содержание. До Леонида Енгибарова наш цирк не знал
клоуна-мима, равного ему по глубине осмысления материала и по исполнительской
технике.
Развитие искусства безостановочно. Сегодня клоунскую пантомиму двигает вперед
следующее поколение даровитых мимов. И в первую очередь здесь следует назвать
Вячеслава Полунина, актера с абсолютным комедийным слухом и виртуозным
мастерством. Полунин принес в безмолвный комизм оригинальные художественные
концепции. Спектакли возглавляемого им театра «Лицедеи» — новое слово в
искусстве клоунады — клоунады 80-х годов.
Краткий обзор зрелищных форм, которые в большей или меньшей мере влияли на
формирование клоунской пантомимы, не претендует на исчерпывающее освещение всей
проблемы. Проблема эта достаточно обширна и еще только начинает всерьез
рассматриваться цирковедением. Моей задачей было расширить представления
читателей о тех истоках, которые щедро питали на протяжении многих и многих лет
цирковой комизм, и в частности искусство клоунов-мимов — прямых наследников
несметных богатств, собранных за столетия. Ведь конечная цель изучения любого
предмета — выход в день сегодняшний.
С пером в руке
В целом я далек от того,
чтобы недооценивать поэтичность,
которая живет в вас,
и, надеюсь, разовьется в нечто
гораздо более зрелое,
если Вам только удастся
удержать равновесие
как в жизни, тик и в искусстве...
и пусть Вас не введут в
заблуждение похвала,
несправедливый укор ила тысяча
демонов беспокойного
духа времени.
Из письма писателя Б.-С. Ингемана Х.-К. Андерсену
Начиналось это давно. «Еще когда был мальчишкой, мечтал написать книгу,—
признавался Леонид Енгибаров.— Какую? Ну ясно —- приключенческую». И он
действительно написал книгу. Только другого характера — книгу поэтических
миниатюр «Первый раунд». Спустя некоторое время увидела свет еще одна—
«Последний раунд».
По всей вероятности, неутихающее желание писать было острейшей потребностью
самовыражения. И она, эта потребность, стучалась в сердце актера с таким же
нетерпением, с каким андерсеновская Русалочка (та самая, что стала символом
Датского государства) жаждала обрести человеческую душу.
Столь богато одаренной натуре, как Енгибаров, было, полагаю, тесновато в
границах лишь актерского исполнительства. Помимо цирковой ему требовалась еще и
другая арена, где бы он мог полнее высказывать свои мысли, свое отношение к
действительности.
И такой ареной стала литература.
Пробуя свои силы в новом качестве, Енгибаров осознавал всю меру ответственности
человека, связавшего свою судьбу с литературой. Вот запись в его блокноте:
«Писать трудно. Потому что надо, чтобы написанное приносило не меньше пользы,
чем зеленое дерево, из которого сделана бумага». А в его автобиографии читаем:
«Главное для меня в жизни — ответственность и волнение перед чернильницей и
чистым листом бумаги».
Взыскательный к себе, он долгое время таил свои литературные опыты и открыто
выступал лишь как автор либретто пантомимических сценок, киносценариев,
интермедий, реприз. В папках репертуарного отдела Союзгосцирка и но сию пору
«находится на вооружении» написанное Енгибаровым. Его и ныне играют и ставят.
Для литературной деятельности он был основательно заряжен жизненными
впечатлениями, а его творческое воображение казалось неисчерпаемым. На наших
глазах сформировался интересный новеллист с четко выраженным индивидуальным
почерком.
Литературный дебют Леонида Енгибарова состоялся в 1964 году в Праге. Едва
отгремели овации после триумфальных выступлений на Международном конкурсе
клоунов и он, обладатель первой премии, бережно упаковывал в номере отеля
прекрасную вазу богемского хрусталя (высший приз), к нему вошел сотрудник
популярного чешского журнала «Млада свет». «Редакции стало известно,— сказал
он,— что соудруг Енгибаров проявляет большой интерес к литературе, что он даже
пишет сам. И те, кому довелось слышать сочинения гостя, дают весьма высокую
оценку его творчества. Журнал хотел бы напечатать несколько его вещей…».
Ныне эта первая публикация, которой сам Леонид Георгиевич очень дорожил,
хранится, как и все его литературное наследие, в Центральном архиве литературы
и искусства.
Успех окрылил и придал рвение его работе за письменным столом. С тем же пылом,
с каким еще недавно рассуждал об эксцентрике, о секретах экранного комизма,
теперь говорил он о волшебстве слова, о тонкостях стиля. Похоже было, что
«перышко», как Леонид называл свою авторучку, начало перевешивать штангу,
которую он поднимал в шуточной сценке «Тяжелоатлет»
Его охотно стали печатать на литературных страницах газет, в толстых и тонких
журналах—«Волга», «Урал», «Сибирские огни», «Москва», «Дон», «Огонек». Радушно
принял Енгибарова и профессиональный ежемесячник «Советская эстрада и цирк».
Актерские странствия открывали широкие горизонты для новых, ярких жизненных
впечатлений, без чего, как он знал, не может сложиться настоящий писатель.
Теперь Леонид не расставался с записной книжкой. Кончалась одна — приобретал
новую, выбирая в магазине самые крупные (многие из них, к счастью,
сохранились). Заполнял страницы торопливым, нервным почерком. Иные из этих
записей стали заготовками к будущим новеллам и рассказам.
Енгибаров тяготел к малой литературной форме — миниатюре. Полагаю, что он тонко
уловил одну из примет века повышенных скоростей — стремление к лапидарности, к
произведениям кратким по объему, но композиционно завершенным, отмеченным
поэтической обобщенностью.
Где Енгибаров брал сюжеты для своих миниатюр? Вероятно, они приходили к нему
примерно тем же путем, что и к его любимому писателю Андерсену, который сказал
в одном из своих писем, что иногда ему «кажется — будто каждый забор, каждый
маленький цветок говорит: «Взгляни на меня, и тебе откроется история всей моей
жизни». И стоит мне так сделать, пишет сказочник, как у меня готов рассказ».
Примерно так же и у Енгибарова. Все пережитое тонко чувствующей душой лирика
преломлялось через его индивидуальность, рождая образы, картины, эмоции.
Немаловажную роль играл в этом и его удивительный дар воображения. «В моей
голове,— говорил он друзьям,— постоянно теснятся персонажи будущих новелл,
приводят с собой других и стучатся в мое сердце...».
А теперь самый раз последовать рекомендации Гете, который говорил: если хотите
понять поэта, отправляйтесь в его страну.
Страна енгибаровской фантазии заселена каменотесами, боксерами, добрыми
клоунами, своенравными девушками, художниками, мудрецами. В ее теплом климате
хорошо живется чудакам, людям, далеким от практицизма, которые способны
выпрашивать у любимой на память ее... тень, подстригать ножницами струйки
фонтанов. Но больше всего обитает здесь детей и влюбленных. Вот уж кому
воистину привольно дышится в этом добром солнечном краю.
В лучших его миниатюрах авторская идея изложена не впрямую, подается «не в
лоб», а в расчете на читательское додумывание, на способность улавливать
подтекст, или, как говорят,— второй план. Всем своим образным строем его
минирассказы обращены к тем, кто умеет видеть за деталями цельную картину,
слышать внутреннюю мелодию произведения, ради которой зачастую оно и написано.
Взять, к примеру, новеллу «Интервью», характерную для его поэтики.
...Журналист расспрашивает знаменитого укротителя. (Беседа происходит в
гардеробной, увешанной фотографиями хищников.) «Он угощает меня,— говорит
журналист, рассказ ведется от его лица,— армянским вином, потом начинает
переодеваться. Снимает роскошный, весь в сверкающих камнях колет. Под колетом —
обыкновенная белая спортивная майка... И я невольно вздрагиваю: все его тело в
каких-то неправдоподобных рваных рубцах... «Да нет,— укротитель успокаивает
взволнованного гостя,— это у меня не на работе, это — в сорок третьем, в гестапо...».
При всей скупости выразительных средств рассказ необычайно впечатляющ. В нем
все тонко продумано. Как бы вскользь говорится, что на стене висят фотографии
хищников: тигров, львов и «черных, как осенняя ночь», пантер, но именно эта
деталь — оскаленные пасти — создает нужное автору настроение. Он расчетливо
направил мысли рассказчика и наши, читательские, в нужную ему сторону — поселил
внутреннюю тревогу. Невольно думаешь: встреча с клыками этих чудовищ не сулит
ничего хорошего... Автор искусно настроил нас на то, что страшные рубцы на теле
укротителя — следы кровавого зверства. И вдруг неожиданный, как у О. Генри,
поворот — гестапо. Всего одно слово, но какое емкое! Оно мгновенно пробуждает в
читателе незабываемое — картину ужасов военных дней. И само собой напрашивается
вывод: свирепые хищники — не те, что на фотоснимках, а те, что орудуют в
мрачных застенках гестапо.
Бытовая вроде бы зарисовка обернулась психологически- социальным этюдом. В этой
двадцатистрочной миниатюре — сюжет для целой повести.
Глубиной проникновения в жизнь, методом ее исследования — иные из енгибаровских
миниатюр рождают ощущение открытия, словно нечто хорошо знакомое повернулось
новой сверкающей гранью. Автор умеет увидеть в обыденном значительное, в
знакомом — неизвестное (одна из его новелл так и называется «Обыкновенное —
необыкновенно»), и рассказывает он об этом свежим, поэтическим языком, порой с
философским подтекстом. И здесь ключ к вратам в прекрасный мир новелл
Енгибарова, предпочитающего не ставить точки над i. Мастер мягкого рисунка,
обобщенной линии, он больше доверяет какому- нибудь одному художественному
штриху.
Нет, не навязывал он ни зрителям, ни читателям своих мнений, лишь приглашал к
совместным раздумьям над проблемами, облаченными в художественную форму и как
бы поставленными на коллективное обсуждение. Условно все написанное им можно
разбить тематически на следующие разделы: короткие рассказы на спортивные темы,
лирические новеллы, сказки, географические зарисовки городов и стран, созданные
под впечатлением гастрольных поездок, басни в прозе, небольшие эссе, либретто
цирковых номеров, киносценарии, статьи, предисловия — какое богатство жанровых
форм!
Среди нестрого сюжетного разнообразия особое место занимает тема цирка.
Почитатель этого искусства Юрий Олеша заметил как-то, что настоящий рассказ о
клоуне способен создать лишь сам клоун. Енгибаровские новеллы о представителях
этой древней профессии — «Король», «Чуть- чуть», «Ей было тоскливо» и другие —
поэтичны и трогательны. Своим содержанием и настроением они способны многое
сказать читателям о мастерах смеха.
Помнится, как горд был Енгибаров, когда издательство «Искусство» предложило ему
написать предисловие к книге рассказов зарубежных авторов «Любимый цирк» (книга
вышла уже после его смерти). Предисловие замечательно тонким проникновением в
природу «трудного и всегда загадочного, по словам автора, искусства ловких и
смелых». Написать так мог лишь человек, который по личному опыту знает,
«сколько стоят секунды победы на арене цирка, победы над самим собой». Столь
поэтично и вместе с тем столь глубоко о цирке написано не так уж много.
Крайне редко обращался Енгибаров к бытовой тематике. По своим литературным и
эстетическим пристрастиям он тяготел к образно-поэтическим переосмыслениям
действительности. Но в тех немногих случаях, когда делал жанровые зарисовки,
показал себя метким наблюдателем современной жизни с ее характерными приметами.
Вот выразительный набросок этого плана. Тетка Марья никак не отважится перейти
улицу, гудящую машинами, которые проносятся перед ней с бешеной скоростью (А
собралась она в церковь). Постояла, подождала, да и махнула рукой: бог с ней, с
церковной службой! И пошла смотреть телевизор...
В этом же ключе писал он маленькие, по-басенному аллегорические притчи, которые
своим образно-стилевым решением были близки веселой пародии, имеющей целью
«снизить» предмет. Впрочем, темой ему могло послужить не только подсмотренное в
быстротекущей повседневности но и нечто услышанное внутренним слухом. И тогда
на бумагу ложилась озорная фантастическая история.
Енгибаровская фантастика тоже малометражна и всегда сохраненная, со смешинками.
Автор избирал такую форму, чтобы покруче замесить сюжет, интереснее рассказать
о человеческой доброте, о таланте, о бескорыстии. В этом Ряду; «Чуть-чуть», «Поговорили»
и в особенности «Парень, который придумал колесо» — десять строк этой улыбчивой
миниатюры, право же, стоят многих страниц иных опусов, идущих под рубрикой
фантастики.
Оригинальный на манеже, Енгибаров был оригинален и в литературном творчестве.
За внешней простотой в его миниатюрах скрыта некая хитроумная пружина, в ней-то
и таится секрет производимого эффекта. Нет, не для развлечения создавал артист
свои клоунские интермедии и не для забавы сочинял свои новеллы. Больше всего
привлекала его возможность раскрывать магией слова тонкие движения человеческой
психики.
Душевная щедрость самого литератора нашла отражение во многих его рассказах,
лирический герой которых наделен высоким даром человеколюбия. Эти поэтически
окрашенные страницы но своей тематической направленности — взволнованный призыв
к доброте, к человечности, к взаимопониманию. Любовью к людям насыщена чуть ли
не каждая енгибаровская строка. Главный предмет его писательской приверженности
— человеческое сердце. Характерна в этом смысле новелла «Тореадор»; ее пафос —
все то нее чувство гуманности. Девушка любит тореро не за искусное владение
мулетой, а за то, что «он не умел убивать»... Речевая тональность и
доверительные интонации рассказанной истории вызывают наше сочувствие героям новеллы
и одобрение их поступков.
Сила Енгибарова как новеллиста в способности создавать настроение. И достигал
он этого правдой чувств, искренним тоном повествования, остроумием неожиданных
сопоставлений — все это, вместе взятое, существовало на страницах его новелл в
органичном художественном единстве и рождало в читателе сопереживание.
Внимательный к жизненным деталям, он мог на их основе воспроизводить цельные
картины. Так, например, опосредованно, через образ окна (а они, по его словам,
«всегда немножко предатели») автор поведал нам любопытнейшую историю, которую
ему «рассказало одно окно», о трагедии одиночества, о превратностях любви и о
зарождении новой жизни.
На узком пространстве коротких енгибаровских миниатюр живут большие чувства —
боль, радость, надежда, сострадание, доверие, нежность, любовь. И что
примечательно — героям его вовсе не тесно в рамках «малого метража», напротив,
дышится им здесь легко, чувствуют они себя свободно и даже весело.
Подобно стихам истинного поэта, его миниатюры не вымучены, воспринимаются как
написанные сразу набело, единым духом, легко и непринужденно; кажется, будто
эти строки вылились прямо из сердца, минуя шлифовальный станок ума, будто автор
не знал тягостной поры литературной учебы — так зрелы и так своеобразны его
произведения, сверкающие, словно хорошо ограненные драгоценные камни.
На самом же деле за легкостью письма, за изяществом стиля скрыт огромный труд.
Леонид тщательно отделывал паже крошечные зарисовки. Хотя черновики его почти
не сохранились, но даже то немногое, чем мы располагаем, свидетельствует о
мучительных поисках совершенной формы. Стоит взглянуть на эти листки,
испещренные бесчисленными поправками, и станет ясно, каким напряжением ума
добыты эти «граммы радия». Впрочем, иначе и быть не могло: без колоссальной
работоспособности, без воистину титанического труда не сложился еще ни один
подлинный литератор.
Свои новеллы Енгибаров писал, если сказать словами древнеармянских
миниатюристов, «тремя пальцами, а работал всем телом». Писал много, и не от случая
к случаю — поджидать вдохновение было не в его правилах. «Каждое утро я должен
проводить за письменным столом, иначе придешь к людям пустым».
Его литературному стилю не свойственны ни риторика, ни нравоучения. Не
пользовался Енгибаров и диалогической формой, ограничиваясь, и то не часто,
лишь отдельными репликами действующих лиц, репликами, которые никогда не
становились спором двух людей, обменом мыслями. Не встретите в его
произведениях и многоголосья. Излюбленная авторская форма — монологически-повествовательная.
Как на арене не прибегал он к сгущенному комизму и педалированию, так и,
положив перед собой лист бумаги, избегал черного цвета, жирных мазков и
сгущения красок. Его излюбленное художественное средство — акварельное письмо
сдержанной колористической гаммы. Литературной манере этого художника слова
присуща эскизность: он не выписывал ситуацию и обстоятельства, а делал лишь
набросок скупым пером. Обычно это были беглые типажные зарисовки, сила которых
в острой наблюдательности и авторских оценках от лица человека, по-доброму
глядящего на мир.
И еще одна особенность его почерка — лаконизм. Слова в его миниатюрах
придирчиво отобраны, «все, что не работает на сюжет, отброшено прочь». Такая
способность очищать свои язык «от узорчиков», такое сознательное
самоограничение говорит о его литературной зрелости, о высокой требовательности
к художественной форме. В новелле-зарисовке «Долина» всего четыре строки, но
каких емких! Поведав, что он поселился в долине Арарата, похожей на чашу, «края
которой — горы», лирический герой заключает: «Я живу в ладонях земли».
Согласитесь, сказать так способен лишь истинный художник.
Характерно для Енгибарова-литератора сильно развитое метафорическое мышление.
Его новеллы — сверкающий каскад метафор, которые сообщают явлениям жизни
неизвестный дотоле смысл, по-новому высвечивают предметный мир, одушевляют его
и устанавливают связи с ним человека.
Перед читателем разворачивается многоцветная череда эпитетов, озорных
ассоциаций, неожиданных сравнений, иронических переосмыслений, искрометного
юмора. Приведу лишь некоторые из его тропов. У боксера боковые удары — «все
равно, что вращающийся пропеллер самолета» («В бою ничьих не бывает»);
самолеты— «хмельные от скорости» («Зависть»); «Те, кого любят, всегда бывают
необыкновенными, и у них даже под дождем бывает солнечная тень» («Тень»).
Новизна и неожиданность этих метафор очевидны; с первых же строк становится
ясно, что перед нами — художник яркого образного мышления.
Перу Енгибарова свойствен еще один, не столь уж частый в литературе прием —
парадоксальные сдвиги устоявшихся понятий. Вот, к примеру, автор восклицает:
«Чем больше квартира, тем дальше друг от друга те, кто в ней живут» («Зонтик»),
«Коварные красные розы, готовые даже в счастливые для вас минуты исподтишка выпустить
свои шипы» («Желтая роза»). И еще одно характерно для его литературной
направленности: природа у него всегда в сюжетном движении, всегда
опоэтизирована и одушевлена. «Голые деревья ежились и дрожали», «ветки
прислушивались», небосвод «скрипит и трещит», бурьян «ошалел от любви и
преданности», георгины — «печальны». Ожившая по весне природа метафорически
сравнивается с пожаром: березы, тополя, акации «запылали салатовым цветом», по
кустам сирени «пробежал изумрудный огонь».
Настоящий клоун глядит на явления жизни широко распахнутыми глазами ребенка.
Подобным же образом, по- детски открыто, с удивлением и восторгом взирают на
окружающее и герои его новелл. В глазах шестилетней девочки из рассказа «Моя
знакомая» дом похож на... бутерброд. Прочтите эту восхитительную миниатюру, и
вы согласитесь, что написать так способен лишь поэт. Только поэт мог сказать
про маленький самолет, что он «стрекочет», как старенькая швейная машина и,
кажется, зашивает распоротое истребителями небо». Только истинному поэту захочется
подгрести снег к стволу старого дерева, «чтобы ему было теплее». Только
настоящий поэт способен сравнить круглую арену, на которую он ежевечерне
выходит смешить публику, с «маленькой желтой планетой диаметром в 13 метров, с
коротким названием «Цирк».
Поэтический склад дарования, который так заметно проявлялся в актерском
творчестве Енгибарова, доминирует и в литературном. Его миниатюры — это, в
сущности, концентрат поэзии, чувства и мысли. Он был способен видеть звездный
дождь там, где другие лицезрели только серое небо, которое заволокли тучи. Там,
где мы с вами заметили бы лишь яблоню в цвету,— ему она представляется
балериной в белоснежной пачке. Каждый вечер яблоня- балерина, стоя «среди
ошалевшего от любви и преданности бурьяна», слышит «овацию восхищенного
электропоезда — с желтыми глазами-окнами, проносящегося к далекому морю...»
(«Яблоня»). Лирический герой новеллы «Дорога», уезжая далеко-далеко, садится в
последний вагон. Для чего? «Чтобы быть хоть немного ближе к тебе» (оставшейся
на перроне).
В большинстве миниатюры Енгибарова камерны, в них сильны интимные интонации. В
центре этих историй — человеческое сердце. Прихотливые вариации основного
мотива: взаимное притяжение двух сердец. Если бы понадобилось определить
характер его литературного дарования, то я бы сказал: лирик-миниатюрист. Не
случайно и в цирке он тяготел к пантомиме, окрашенной лирически; не случайно
также за этим клоуном прочно утвердился эпитет «лирический».
За многими строками его солнечных миниатюр стоит биография самого литератора,
та духовная атмосфера, в которой жил последние годы Леонид Енгибаров; они
вобрали в себя и черты его характера и движения души. Иногда его личность
предстает отраженно — в подтексте, интонациях, а то и просто в метафоре; ведь
полнее всего литератор раскрывается в том, что он пишет. В живых трепещущих
строках порой звучат исповедальные мотивы.
Даже если кому-то и не удалось видеть его выступлений в цирке, на экране кино и
телевизора, а случилось лишь Познакомиться с ним по этим миниатюрам, то и тогда
возникает обаятельный образ человека доброго, умного, с нежным и веселым
сердцем, любящего жизнь, природу, шутку.
Есть в его почерке еще одна привлекательная черта — романтика, которая, однако,
никогда не встает на котурны и не бывает далекой от действительности. Ей чужда
выспренность, она чиста и прозрачна, как горный воздух.
Трудно предречь, как бы сложилась в дальнейшем его литературная судьба, но одно
ясно: какое бы русло ни пробил для себя этот могучий ноток — поэтическая струя
в нем осталась бы главной.
Со временем, когда соберут и проанализируют все написанное им, я твердо
убежден, что подлинный масштаб его литературного дарования будет оценен самым
высоким баллом.
...Я люблю снимок, на котором Леонид изображен размышляющим, с пером в руке.
Фотограф уловил миг рождения мысли — вот-вот она ляжет на бумагу. Знаменитый
клоун, «думающий кончиком пера» —разве это не завершающий штрих к портрету
Енгибарова-литератора?
Личность
Чтоб человеку, посвятившему
себя нашему делу
(как, впрочем, и любому другому},
состояться как актеру,
ему надо прежде состояться как
личности.
Донатос Банионис
Всякое творчество неотделимо от личности самого творца. Оба эти свойства —
творческое и личностное — пребывают обычно в единстве, не всегда, впрочем,
гармоничном. А в иных, редких, правда, случаях — ив остром противоречии. Так, к
примеру сказать, популярный в 30-е годы артист Хасан Мусин в нравственном
измерении значительно уступал Мусину-клоуну.
На результаты художнических усилий созидателя ложится, как правило, отсвет его
судьбы. В предыдущих главах читатель уже получил некоторое представление о
творческом облике Леонида Енгибарова, а теперь более пристально вглядимся в его
человеческое лицо.
Нашему знакомству способствовало следующее обстоятельство. Весной 1966 года
издательство «Искусство» замыслило выпустить в свет книгу, посвященную
актуальным проблемам клоунады. Участвовать в ней должны были ведущие мастера
смеха. Им предстояло поделиться своим опытом. В помощь артистам — для
литературной обработки материала — привлекли журналистов, пишущих о цирке.
Меня, по моей просьбе, «прикрепили» к Леониду Енгибарову. Еще во время его
дебюта на манеже Московского цирка на Цветном бульваре молодой комик-мим
покорил незаурядностью своего дарования. Первая же встреча расширила
представление о нем и в личностном плане. Несмотря на молодость, его суждения о
насущных вопросах современного цирка отличались глубиной и зрелостью.
Неповторимым было и его видение мира.
Не со всем, о чем рассуждал Енгибаров, можно было согласиться, возникали,
конечно, у нас и споры, но мыслил он всегда самостоятельно. Магнитофон
зафиксировал несколько наших бесед, записи эти и послужили основой большой
статьи, опубликованной в сборнике «Искусство клоунады». (Рукопись с размашистой
визой артиста — «Все в порядке» —и сейчас хранится в моем архиве.)
В дальнейшем наши пути постоянно пересекались: мы виделись то в Москве, то в
цирках других городов. Я старался не пропустить случая, чтобы побеседовать с
Леонидом Георгиевичем; он обладал удивительной способностью легко вести диалог.
Разговаривать с ним было истинное удовольствие, чему, между прочим,
способствовало и такое немаловажное обстоятельство: он умел не только интересно
рассуждать, но и хорошо слушать. Эту черту его характера — легкость общения,
коммуникабельность, как теперь говорят, отмечали все, кто встречался с ним.
Впрочем, следовало бы оговориться, что с людьми, несимпатичными ему, или с
теми, с кем, по его выражению, «не совпадает группа крови», он был ершист,
ироничен, а порой и задирист.
Популярность приносила ему все новые и новые знакомства. Тесно соприкасаясь с
людьми искусства, с литераторами, Енгибаров, натура чрезвычайно восприимчивая,
жадно впитывал в себя мысли, идеи, новые веяния. И это, несомненно, оказывало
заметное воздействие на формирование его личности. И, разумеется, на
творчество.
За годы нашего знакомства никогда не слышал от него ни цирковых баек, до
которых так охочи многие люди его профессии, ни пустых рассуждений. Наши беседы
носили на себе отсвет незаурядной личности моего собеседника. Леонид всегда был
расположен к разговору о живописи, которую, кстати, знал достаточно хорошо, о
театре, о кино. Оживлялся, когда речь заходила о поэзии или спорте. Главным же
предметом наших рассуждений была комедия; он охотно вступал в споры об
эксцентрике, о нюансах юмора, о комических трюках. Мысль его обычно шла не по
прямой, часто петляла, только что начатая темпераментно захлестывалась новой.
Общаться с ним было не просто, ибо этот человек всегда был неожиданным.
Вспоминается андерсеновская сказка «Соловей», в которой капельмейстер
императора отдавал предпочтение искусственной птице перед живой, поскольку у
живой «никогда нельзя знать заранее, что именно она споет, у искусственной же
все известно наперед». В общении с Енгибаровым тоже было неизвестно наперед,
какая песня возникнет в следующую минуту. Уж очень живой ум, и высоко развито
чувство ситуации. И все это смыкалось с богатством эмоционального мира, с
обостренной наблюдательностью.
Как-то раз мы проходили за кулисами цирка через слоновник, и Леонид кивнул на
пожилую женщину, служащую по уходу за животными. «Какие-то неприятности у
тети»,— сказал он. «Почему так думаете?» — «Видите, у нее выражение лица, как у
Алконоста — птицы печали на картине Васнецова, помните, в Третьяковке «Сирии и
Алконост»?..»
В другой раз встретил его на Цветном бульваре, шел улыбаясь во все лицо.— «Чему
радуетесь?» — «Да вот только что видел: идет человек с авоськой, а в ней —
боксерские перчатки. Отличная деталь для кинокомедии».
Иногда изумлял более глубокими наблюдениями. Запомнился, например, разговор
после его возвращения из Баку. Приехал, нагруженный изящными ' томиками стихов,
выпущенных в свет местным издательством. «Странное дело,— сказал задумчиво,—
читаешь любовную лирику и прошлых времен и сегодняшнюю — поэты преклоняются
перед женщиной, воспевают и возносят до небес, а в жизни, увы, еще так часто
видим хамское пренебрежение к ней».
Литература и все, что ее касалось, стало его воздухом. Как и всякий книголюб,
он готов был рассуждать на эту тему бесконечно и с неизменным воодушевлением.
Таким он и запомнился во время одной из наших встреч в книжном магазине на
Кузнецком мосту. Мы столкнулись в дверях, он уже уходил с покупкой, но
вернулся. Было видно, что приобретение доставило ему большую радость, которой
не терпелось поделиться. Это был только что выпущенный в свет прекрасно
изданный альбом рисунков Эйзенштейна. Светясь своей особенной, енгибаровской
улыбкой, в которой так естественно сочетались мягкосердечие, детская радость,
какое-то смущение и вместе с тем легкая самоирония, он отвел меня в сторону,
где было не так людно, развернул покупку и, полистав альбом, сразу же нашел
искомое — цветное изображение клоунов. Рисунки и впрямь были превосходны!
Леонид привлек мое внимание к образу рыжего. Великий режиссер- художник
нарисовал его в традиционном виде: огненного цвета парик, нос — дуля, рот до
ушей, «клетчатые штаны неимоверной ширины». Прочтите! — Енгибаровский палец
провел черту под надписью: «Властитель дум Жорж». Лицо Леонида сияло.
«Представьте только: «Властитель дум»! Так писали когда-то лишь о Мочалове да
Ермоловой...»
Во время другой нашей встречи, размышляя о емкости слова, он сделал вывод о
том, что порой одна-единственная строка может содержать массу эмоциональной
информации. «Помните фразу в песне: «Поговори хоть ты со мной, гитара
семиструнная»? И стал развивать свою мысль. Ведь как бывает в жизни? Все бегут,
всем некогда и никому нет дела до одинокой души, так жаждущей человеческого
общения... Какая боль слышится в этом «Поговори хоть ты со мной!..» И,
заметьте, не только смысловой, но и ритмический акцент в строке приходится
именно на слово «хоть ты...».
От встречи к встрече возрастал интерес к богатому внутреннему миру этого
таланта, идущего по жизни путем наибольшего сопротивления. Однажды он выразил
сожаление, что в свое время не овладел танцем. «Вот вчера вы рассказывали о
смешных хореографических пародиях Виталия Лазаренко и Жакомино, а меня завидки
брали. И злость на себя: ну почему тогда, в училище, манкировал занятиями по
балету? Как бы это пригодилось теперь». В другой раз признался: «Если бы нам
было дано начинать жизнь заново, пошел бы в мультипликацию. Эстрада и манеж
все-таки тесноваты...»
Все последние годы в этой неуемной натуре жила мечта сыграть на сцене или в
кино какую-нибудь роль классического репертуара. И особенно часто упоминался
Сирано де Бержерак. По-видимому, привлекал этот образ совпадением
темпераментов, поэтичностью и высоким романтизмом. Из многих бесед с
Енгибаровым у меня сложилось убеждение, что он стоит на пороге каких-то важных
дел, что для этого уже накоплены духовные силы.
Но на самом взлете судьба распорядилась по-своему: Енгибаров ушел из цирка.
Часто его спрашивали: почему же все-таки, несмотря на устойчивый успех, он
покинул манеж? И в самом деле, почему? Формально — не была исполнена одна из
его просьб. Но всё же настоящей причиной, как мне известно, явилось небрежение
к таланту. Словно бы специально по этому поводу Максим Горький заметил однажды,
что талант — «очень нежная штука, его можно и пропустить или смять
грубостью...».
Енгибаров покинул арену в разгар подготовки к спектаклю «Причуды клоуна»,
который готовился по его сценарию, в его же постановке и при его участии.
Сценарий с успехом прошел апробацию на Художественном совете. Горяч и
нетерпелив, Леонид был увлечен работой. Однако месяц пролетал за месяцем, а
заказы на изготовление аппаратуры и бутафории, утверждение смет и прочее
наталкивались на бюрократические препоны и безразличие администрации. «Ну что
вы горячитесь,— внушали ему.— Все будет в свое время. А по щучьему велению
только в сказках появляются вещи». Сам же он пробивной силой снабженцев не
обладал, да и простым человеческим терпеньем не отличался.
Работа на эстраде, несмотря на хорошее отношение к нему со стороны
администрации, творческого удовлетворения не приносила.
Енгибаров скучал по цирку.
Мне довелось слышать от него: «На эстраде я всего лишь гость». Из его
взволнованного признания выходило, что там нет простора для осуществления
масштабных задумок и что он ждет предложений от Союзгосцирка. «У меня и у
самого есть что ему предложить. С цирком я не порывал дружеских отношений»,—
сказал он в своем последнем интервью. И пояснил: «Клоунские ботинки висят на
гвозде, и в любую минуту я могу надеть их. И тогда снова выйдет на манеж
мальчишка в полосатой рубашке с одной лямкой через плечо».
Рассказывая по горячему следу о своем разрыве с цирком, он пишет близкому другу
в Прагу: «Иногда бывает грустно, что с арены ушел великий клоун. Нет, не мне,
моим друзьям. Они так говорят».
Друзья предприняли некоторые шаги, чтобы содействовать возвращению любимого
артиста на манеж. И это почти удалось. Во второй половине июля 1972 года
Енгибаров был приглашен для беседы в Союзгосцирк. Он явился туда со списком из
десяти пунктов. Друзьям сказал: «Если все будет удовлетворено — немедленно
возвращаюсь». В цирковой среде было известно, что заместитель управляющего
Георгий Сергеевич Агаджанов, человек тонкого духовного склада и к тому же
отличный работник — знающий и энергичный, высоко ценил дарование Енгибарова.
Агаджанов-то и приложил все усилия, чтобы вернуть в цирк «блудного сына», как
шутил на свой счет Леонид. Рассказывали, что проговорили они часа три. Вечером
того дня его видели счастливым и преисполненным воодушевления. «Полный
порядок,— сиял он,— возвращаюсь!»
Но свершиться этому не суждено было. Цирк не увидел больше своего любимца.
В «Автобиографии», которую он предпослал сборнику миниатюр «Первый раунд»,
вводя читателя в свой внутренний мир, Леонид Енгибаров прибегнул к такому
литературному приему: перечислил несколько имен, несколько явлений и вещей и
поместил их под рубрикой «Люблю». А в противоположность дал рубрику — «Боюсь».
Например, «Люблю море, осень». Боюсь: «благополучия», К сожалению, его
автобиография слишком коротка. А мы постараемся расширить перечень в этих
рубриках.
Итак, любил жизнь во всей ее полноте. Любил людей душевно открытых; любил людей
талантливых. Любил музыку, живопись, все виды спорта. Внимательно следил за
результатами каждого соревнования. Дружил со многими спортсменами. Любил
остроумные шутки и веселые розыгрыши. Ученик известного циркового проказника
Донато, Леонид Енгибаров тоже охотно пускался на веселые мистификации. Но
позволял себе проделывать их лишь с близкими друзьями и родными.
Любил всегда и во всем быть первым. Если что-либо Делал, то хотел, чтобы это
непременно было лучше, чем У других. И болезненно реагировал, если сам в чем-то
Давал маху. Известен такой случай. Для спектакля, который он как режиссер
подготавливал в то время, понадобилось, чтобы все участники вращали на пальце
мяч. «Научи людей»,— сказал Леонид Георгиевич молодому артисту цирка А.
Нисанову. «А я не умею». «Как это не умеешь? Ведь это так просто. Вот смотри.—
Енгибаров попытался закрутить мяч, но тот сразу же свалился с пальца. Еще
попытка — и снова неудача. Режиссер смутился до того, что покрылся испариной.
Буркнул: «Научись!» и ушел. Больше в тот вечер его не видели. «На следующий
день я решил прийти пораньше,— рассказывал Нисанов,— потренироваться с мячом.
Явился в шесть утра и вдруг вижу на площадке в уголке в репетиционном костюме
Леонид Георгиевич учится крутить мяч на пальце».
Натура увлекающаяся, Енгибаров умел заражать окружающих тем, что ему пришлось
по душе. Находил такие убедительные слова, что своей восторженной оценкой
заставлял заочно восхититься любого. Не раз я слышал, как он с воодушевлением
пересказывал сценки или репризы, которые ему понравились- в исполнении наших и
зарубежных мастеров. Любил проигрывать их перед друзьями, умел хорошо передавать
манеру полюбившегося актера.
Рассказчиком Леонид Георгиевич был бесподобным. В частности, запомнилась
история о том, как он учился ездить на моноцикле, то есть одноколесном
велосипеде. «Проклятая машина так и норовила вышмыгнуть из-под меня». Долго
ничего не получалось: то и дело падал, вихлял и обо что-нибудь стукался. «И
тогда я решил выйти на простор. На улицу. Только отъехал — бух! — врезался в
дерево. И тут случился старый цирковой волк. «Ты,— говорит,— вот что, ты смотри
не на колесо, а вперед и чуть выше». И представьте себе, помогло — покатил».
«Гляди вперед и чуть выше» — стало его любимым присловием. Среди других часто
повторяемых изречений: «Лучше износиться, чем заржаветь». Эти простые и мудрые
слова он услышал в Ереване из уст старой армянки.
Склонный к некоторой театральности, любил «произвести впечатление», иные из его
поступков были явно рассчитаны на внешний эффект. Эта черта его личности ярко
проявилась в таком, скажем, эпизоде, свидетелем которого мне довелось быть.
Отмечалось окончание гастролей цирка ГДР в нашей стране. В разгар дружеского
ужина в банкетном зале ресторана появился, именно появился, а не вошел,
Енгибаров с огромным букетом роз. И сразу же стал центром внимания. Казалось,
что его приход был тщательно срежиссирован. Торжественный, улыбающийся,
обаятельный, он обходил все столики и церемонно вручал дамам цветы. Любил
находиться в центре внимания даже во время домашних вечеринок. Па этот случай у
него наготове были интересные суждения и даже занятные фокусы: с коробком спичек,
с рублем, с колечком, которое брал у присутствующих. Располагал и различными
затейливыми трюками, подавались они как импровизация. Вот ему «случайно»
попались на глаза ножницы. В его руках они пускаются плясать гопака, идут
«ползунком», делают пируэты и воздушные шпагаты. Однажды в компании Леонид
приколол к стеллажу свой белоснежный носовой платок наподобие маленького
экрана, установил свет настольной лампы и стал показывать теневой театр:
изобразил турка в феске, ковбоя, забавную обезьянку. Потом фломастером
нарисовал на платке бесклювую птицу, вырезал на месте клюва щель, продел в нее
концы ножниц, и птица ожила, смешно задвигала СБОИМ длинным клювом, засвистела,
стала выводить мелодичные трели...
Фантазер и мечтатель, он легко увлекался своими бесконечными замыслами и
нередко принимал желаемое за сущее. Как в детстве, пересказывая дворовым
приятелям содержание очередной прочитанной книги, он придумывал такие красочные
детали, каких не изобретал даже барон Мюнхгаузен, так и в годы популярности
любил вплести в свою биографию подробности, каких в его жизни никогда не
бывало. В этом, пожалуй, походил, в определенном смысле, на итальянского
кинорежиссера и блистательного литератора Федерико Феллини, который
признавался: «Ведь я почти все себе выдумал — и детство, и черты характера, и
ностальгию, и сновидения, и воспоминания,— выдумал, чтобы было о чем
рассказывать» Енгибаров вполне мог бы отнести эти слова на свой счет.
Иной раз любил и побахвалиться, эту черту его характера отмечали многие. Порой
его высказывания просто озадачивали: и как только уживались в этой тонкой
натуре, нетерпимой ко всякой фальши в искусстве, скромность с наивным
фанфаронством, душевная деликатность с мальчишеской заносчивостью.
Енгибаров вполне осознавал свою незаурядность, свою значимость как мастера
цирковой арены. Он считал такое самоуважение естественным и даже необходимым.
Быть может, и в самом деле так требуется? Ведь сказал же поэт Евгений
Винокуров: «Надо, чтобы сам поэт в своих глазах был в какой-то степени
героем... объектом, достойным исследования».
Однажды в Доме работников искусств я познакомил Леонида со своим
приятелем-художником, представив выдающегося артиста как комика милостью
божьей. И добавил: «А еще он — автор интересных литературных новелл».— «Вот и
неверно! — полу шутя - полу серьезно поправил он меня.— Я выдающийся автор. Л
комик — это всего лишь мое хобби».
И вместе с тем Енгибаров не был надменен. Любил дарить друзьям сувениры. Готов
был хоть цветком порадовать первого встречного —- многие и но сию пору хранят
его памятные вещицы. Соученик, а позднее партнер Енгибарова Виктор Аксентьев
рассказал мне. Как-то они сидели в кафе, Леонид был оживлен и весел: только что
вышел из печати его «Первый раунд», и он раздаривал книжку налево и направо.
Виктору достался лишь последний экземпляр. Но вот в кафе заглянул знакомый
художник- карикатурист, подсел к их столику. Узнав о литературном дебюте,
поздравил автора, и тот взял книжку у партнера, вырвал свою фотографию, сделал
надпись и вручил художнику. Потом пришел друг, актер театра, похвалил новеллу
«Яблоня». «И Леонид снова протянул руку: «Дай-ка, пожалуйста». И не успел я
опомниться — выдрал страницу. Ну, тут уж я запротестовал: «Баста!» И спрятал
остатки». Кстати, об упомянутой фотографии: напечатана она в книжке необычно —
вверх ногами. Что это — типографский брак или клоунская шутка? Зная ироничный
ум автора, его склонность к изобретательным дурачествам, можно предположить со
значительной долей вероятности, что это отнюдь не ошибка печатников. Так и
«слышится» голос любимца Еревана («Первый раунд» вышел там), горячо убеждающего
редактора перешагнуть через «не принято», ведь книга-то написана клоуном. И сам
бог велел поозорничать. Видимо, для него, подобно герою рассказа Короленко
«Яшка», «переход от молитвы к скоморошеству был нетруден».
Когда предстояло провести «Вечер пантомимы», любил за какой-нибудь час до
начала принять душ и надеть чистое белье (обязательно шелковое!).
Мотивировалось это тем, что занятие пантомимой требует ясных мыслей, сильных
чувств и чистого тела.
Его работа требовала огромной затраты не только физических сил, но и душевных.
Вот, видимо, почему по окончании спектакля не спешил, как многие другие,,
покинуть гримировочную. Любил посидеть и час и другой, расслабясь. Называл это
эмоциональным остыванием.
Любил рисовать схематического чел овечка-жонглер а, который вращает на пальце
земной шар. Этот образ, видимо, был ему дорог, он фигурирует в нескольких его
литературных произведениях, проходит лейтмотивом через сюжет последнего
несыгранного спектакля. Любил старинные клоунады. В одном из интервью сказал,
что любит то, чем занимаются другие, и в этом смысле называл себя Томом
Сойером...
Страстно любил путешествовать. Был необычайно легок на подъем. Как-то обронил,
что самая близкая его сердцу песня — стук вагонных колес. В другой раз
поделился своей «голубой мечтой» — побывать на родине любимого писателя
Андерсена, походить по острову, как он выразился, с прямо-таки гриновским
названием — Фюн.
Любил играть в шашки; питал пристрастие к спичкам, хотя и не курил. Любил из
них выкладывать во время разговора затейливые узоры, колодцы, «сооружения».
Любил мифологию, мечтал создать серию пантомим на мифологические сюжеты, в
частности, о двуликом Янусе (даже маску мне показывал).
Любимыми городами были: Москва, Ереван, Одесса, Прага. Любимый цвет — зеленый:
цвет надежды. Любимые цветы «анютины глазки» —цветы размышления.
А теперь, как уславливались, продолжим раздел «Боюсь», что в контексте равно
«Не люблю». И первое в этом ряду — поучения. Сам никогда не менторствовал, не
терпел этого и по отношению к себе. Не любил, когда какие-либо обстоятельства
вторгались в утренние часы, отданные литературной работе. Не любил, даже очень
не любил, выступать в крупных стационарах на три-пять тысяч зрителей, где «публика
так далеко, что я не вижу ее глаз, а она — моих, В таких условиях мне крайне
неуютно работать. Неуютно и трудно». Никогда не экономил сил на манеже,
отдавался работе целиком, без остатка и потому болезненно реагировал на всякое
небрежение к себе.
Как истинно требовательный художник, Енгибаров был чужд самоуспокоенности, жил
в состоянии вечного недовольства собой, постоянно корил себя:
«разбрасываешься»... «отвлекаешься на второстепенное»... «тонешь в мелочах». Но
такие бесконечные терзания свободно уживались с отмеченной выше верой в
собственный талант.
Не любил одиночества. Быть на людях — его всегдашняя потребность. (Одиночества
искал лишь изредка.) Человеческие связи нужны были для творчества. Все это
причудливо переплеталось в его характере с капризами премьера арены,
избалованного успехом!
Натура импульсивная, с повышенной эмоциональностью, Енгибаров не любил, более
того, не терпел никакого произвола но отношению к себе. Он был человеком с
обнаженными нервами: каждое неловкое прикосновение причиняло ему острую боль.
Среди напечатанного в сборнике «Первый раунд» мне очень нравится миниатюра
«Сердце», в которой старый каменщик-мудрец рассуждает о свойствах розового
туфа, добываемого в карьерах Армении. Туф как строительный материал прекрасен,
говорит он. «Туф дает людям тепло, но он ранимый, мягкий, и все невзгоды жизни
оставляют на нем свои следы». Аллегория автора ясна: человеческая душа уязвима,
вглядитесь, и увидите на ней рубцы — это следы неосторожного обращения с ней.
Енгибаров чувствовал себя незащищенным от грубого напора деловых людей, от
нажимов самоуверенного невежества. После ухода из цирка в написанных им
новеллах стал часто звучать мотив бережного отношения к отдельной личности.
Некоторые сотрудники Союзгосцирка — люди случайные в искусстве, с делами и
заботами манежа незнакомые, относились к Енгибарову предвзято, считали его
человеком заносчивым и неуправляемым. Но и он не оставался в долгу: дразнил
такого рода деятелей в их служебных кабинетах. И этого ему не прощали.
В особенности не сложились отношения с одним из чиновников, в глазах которого
клоун был неучем. Началось с того, что Ч. бросил артисту грубым тоном что-то
вроде — прочитал ли он в своей жизни хоть одну книгу. Это ему-то, Енгибарову —
заядлому книгочею, готовому истратить последний рубль на томик стихов! Леонид
опешил: «Так ведь я же библиофил». «Вас не о том спрашивают,— отрезал Ч.,— вас
о книгах спрашивают...».
Нетрудно представить себе реакцию на эту реплику человека, наделенного
насмешливым умом. Долго еще будет Енгибаров подвергаться оскорбительным
вмешательствам в свою жизнь, публичным разносам. Но и он, надо заметить, с
присущей ему дерзостью будет парировать удары, ставить этих людей в смешное
положение. «Заповедь — «ударили по правой щеке — подставь левую» считаю в корне
ошибочной»,— написал он в «Автобиографии». ...Давным-давно уже нет в
Союзгосцирке сотрудника Ч., а между тем клеймо, которым был припечатан этот
чинуша, как говорится, не вырубишь и топором. Енгибаров расквитался с ним в
юмореске, полной сарказма,— «Однажды в Одессе». Несмотря на иносказательность,
адрес ее легко угадывается. Начиная от названия тонущего парохода, фамилий
действующих лиц и до основной ситуации, она вся — язвительная насмешка над
бюрократами от цирка.
И наконец, в завершение рубрики «Не люблю». Не любил вспоминать свой дебют в
Новосибирске. Не любил, когда в компании его воспринимали как потешателя, шута.
Не любил писать письма. Матери отправлял из разных городов открытки всего в
несколько слов, что-нибудь вроде: «У меня все в порядке, ма. Чао! Лео».
Возлюбленным посылал короткие поэтичные записки с беглым наброском одной из
двух своих эмблем — розы или зонтика, раскрытого под дождем.
И последнее, чисто житейское: не любил отварное мясо, жареную рыбу, супы,
молоко.
Как уже отмечалось в самом начале книги, имя Леонида Ёнгибарова обросло
легендами, пол у легендами и просто досужим вымыслом. Даже молодая поросль
цирка, новички, которые пришли на манеж только-только, подчас ошарашивали
несусветными небылицами о прославленном клоуне.
Пора, полагаю, отделить мнимое от подлинного, выдумку от истины.
Восприятие нами людей и явлений совпадают редко. Гораздо чаще расходятся. В
этом смысле способность оценивать другого находится в прямой связи с личностью
того, кто оценивает, ибо каждый делает это, как утверждал Гегель: «но мере
своего понимания и душевной глубины ».
Итак, самая распространенная легенда — «Енгибаров много пил». Молва сделала его
чуть ли не алкоголиком. Злостная клевета. Напраслина, порочащая талант. Да, в
начале пути, в пору творческих неудач, которые породили острейшую душевную
неустроенность, Леонид бражничал в дурных компаниях. Но позднее вел жизнь
исключительно трезвую. Мне лично не доводилось видеть его ни разу в подпитии.
Даже во время дружеских застолий. Да и гурманом он, прямо скажем, не был: ел
ничтожно Мало, кушаний не замечал. Каждый раз повторялось одно и то же: весь
поглощенный разговором, рассеянно тыкал в тарелку вилкой и говорил, говорил...
В последние годы Енгибаров, страстно отдаваясь любимому делу, особенно литературной
работе, во всем ограничивал себя. Берег время. Встречи с приятелями и те свел к
минимуму — лишь бы подольше побыть наедине с чистым листом бумаги.
Свою судьбу он складывал обдуманно и энергично, складывал, установив для себя
высокие нравственные критерии и поставив перед собой художественные задачи,
которые казались порой неосуществимыми, так они были смелы и грандиозны.
Он жил в постоянном напряжении мысли, жил, пристально вглядываясь в других и в
самого себя. Жил, щедро тратя душевные и физические силы, неизменно испытывая
жажду творчества. «Работа,— сказал о» мне как-то,— настолько вросла в мою душу,
что она и я — одно целое. Работа и жизнь для меня — синонимы. Признавался, что
вечно должен куда-нибудь спешить, сравнивал себя с детским заводным танком:
«Его пружину закрутили ключом до предела, и он будет двигаться, пока не упрется
в стену или пока не кончится завод».
Порывист и нетерпелив, Енгибаров непрестанно подгонял время, ему казалось, что
оно слишком мешкотно. И потому гнал свою жизнь на запрещенно-повышенных
скоростях: помимо выступлений в цирке, помимо длительных тренировок, участвовал
в шефских концертах, в «рабочих полдниках» в заводских цехах, выступал по радио
и телевидению, прибавим к этому довольно частые киносъемки, постоянную помощь
артистам-новичкам, встречи в редакциях газет и журналов, в домах творческой
интеллигенции; нередко также проводил индивидуальные «Вечера пантомимы»—всегда
в круговерти дел. И всегда с полной отдачей, не щадя себя. А по ночам
бессонница. Жаловался: «До трех-четырех часов не могу заснуть...» Следствие
эмоциональных перегрузок. Впрочем, невероятно уставал и физически. И это зорко
подглядел глазок кинокамеры. В документальной ленте «Леонид Енгибаров —
знакомьтесь» актер запечатлен у себя в гримировочной в тот момент, когда он
вернулся с манежа. Мы видим его вконец обессиленным, он сидит, опершись о
колени, а наблюдательный объектив задержал наше внимание на руках акробата,
нервно вздрагивающих от перенапряжения.
Не обходилось и без легенд, касающихся его интимной жизни. В некоторых из них
он представал чуть ли не прожженным сердцеедом. Конечно, тема эта деликатная,
требует такта и такта, и тем не менее все же необходимо внести ясность. Молодой
талантливый актер, наделенный неотразимым обаянием, он пользовался большим
успехом. Вокруг него всегда вился хоровод поклонниц, в том числе и в самом
цирке. Естественно, что им увлекались многие, а иные до такой степени, что
приезжали к нему в другие города. Да, он был влюбчив, Обладал редкостной, в
общем- то, способностью, по словам одной из песен Вертинского, «из горничных
делать королев...». Дважды был женат и оба раза непродолжительное время. В
интервью, которое давал газетам, журналам и радио, на вопрос о семейном
положении неизменно отвечал: «убежденный холостяк». (Причем слово «убежденный»
всегда интонационно подчеркивалось.) А когда кто-либо бестактно пытался
«влезть, по его выражению, в душу» и допытываться, почему «убежденный», он
защищался припасенной шуткой. Потому, отвечал с вежливой улыбкой, что, как говорят
чехи, «холостяк может быть и дураком, но ему напоминают об этом не столь часто,
как женатому...». Слова «убежденный холостяк», как мне представляется,— некая
броня, подтрунивание над самим собой. В действительности же этого лирика и
романтика, тонкую натуру с поэтическим видением мира мучила жажда настоящей
любви, которая виделась ему высокой и чистой. Об этом убедительно говорят и
многие его литературные новеллы. Легенда, которая приписывает ему донжуанство,
из серии пресловутых россказней о популярных артистах. Все объясняется просто:
Леонид был талантлив и в творчестве, и в любви, и в дружбе. К нему тянулись
люди. Одни отчетливо осознавали его незаурядность, другие лишь угадывали ее,
третьим льстила близость к знаменитости. Он был доступен, открыт сердцем.
Дружба для него «не только общение человека с человеком, а нечто большее —
полное взаимопонимание, духовная слитность». Однажды, когда речь зашла на эту
тему, Леонид вдруг спросил: «Помните у Фета: «Мой ангел, мой гений, мой Друг»?
И тут же удивил неожиданным выводом: «Поэт оценивает душевные качества своей
возлюбленной по возрастающей: сперва она в его глазах ангел, потом гений, а
третьим идет друг. А ведь, казалось бы, после ангела и гения что может быть
выше? Выше, оказывается, друг... Кстати, и Пушкин тоже на первое место ставил
друга: «Ни музы, ни труды, ни радости досуга — ничто не заменит единственного
друга».
Что же касается его отношения к самой любви, то некоторый свет на это проливает
дневниковая запись, сделанная Леонидом 16 сентября 1965 года. (Привожу ее в
сокращенном виде.)
«Я снова один. Это мучительно. Это жутко, будущее кажется совсем беспросветным.
Нет близкого человека, женщины, которая бы поверила, согрела бы тебя, и уже,
наверное, не будет.
Это горькая истина.
А завтра мучительно трудная, каторжная работа, настоящую цену которой знаешь
только ты сам.
Как же так, что любовь и громадная требовательность в любви приводят к разрыву?
Как я кому-нибудь объясню, что я не могу простить любимой женщине ее обычного
человеческого, женского прошлого, потому что для меня у моей любимой прошлое,
настоящее и будущее — это одно, потому что я любил ее в тот день, когда она
родилась, и буду любить до дня смерти, и все, что с ней произойдет в этот
промежуток, касается меня, все я воспринимаю, как если бы это случилось сегодня
утром.
Не понимаю, ничего не понимаю, не понимаю ваших законов, вашей морали, вашей
любви, взрослые.
Не знаю, как я буду жить. В вашем мире я жить не смог, а в моем я совсем один».
Даже если учитывать переменчивый характер Енгибарова, даже если допустить, что
запись сделана в минуту душевной депрессии, содержание ее свидетельствует о
предельном эмоциональном накале. Такая запись могла появиться, по моему
убеждению, как следствие пережитой глубокой личной драмы.
Полагаю, что противоречивые свойства натуры Енгибарова и порождали разные
легенды. Он был необычайно замкнут, вернее сказать, самоуглублен. За внешней
оживленностью всегда угадывалась в нем какая-то душевная смута. В иные из наших
встреч прорывались едва уловимые надрывные ноты... Работая над его архивом, я
обнаружил на полях журнала «Новый мир» сделанное его рукой признание: «Талант —
это всегда тревожность». Приступы внутренней неудовлетворенности рождали в его
душе апатию, которая, впрочем, довольно скоро сменялась вспышкой радости. «Он
нежный был человек и в случае недостаточного приема огорчался, впадал в
«самогрызство»—так определил взыскательность Енгибарова к себе близко знавший
его Сергей Юрский.
Да, эта черта личности Енгибарова была знакома многим. Припоминаю малоизвестный
случай. В начале 1968 года Армянский цирковой коллектив отправился в
гастрольную поездку по Румынии. Первый же спектакль в новом Бухарестском цирке
ошеломил Енгибарова. Успеха, который ему повсеместно сопутствовал и на который
он привычно рассчитывал, не было. Зрители смеялись, аплодировали, но как-то
сдержанно, без обычных восторгов. Очевидцы рассказывали: но окончании
представления коверный, потрясенный «провалом», сидел в своей гримировочной
комнате, обхватив голову руками, и убитым голосом причитал: «Кончено! Баста!
Ухожу! Бросаю все к чертям и ухожу опять в спорт!..» Казалось, то мужество и
упорство, с какими он еще так недавно добивался признания, навсегда покинули
его. Уязвленное самолюбие приносило ему в дни бухарестских гастролей неподдельные
страдания. Появилась болезненная мнительность: он стал напряженно вслушиваться
в каждое слово, ему мерещились насмешливые реплики, сострадательные взгляды,
что при его гордыне вызывало внутренние корчи. Найдется ли еще среди выдающихся
мастеров смеха другое лицо, столь же бескомпромиссное, столь же творчески
цельное и одновременно — противоречивое в личностном аспекте, как Енгибаров?
Парадоксальность в характере Леонида отмечали все, кто знал его близко. Его
внутренний мир — это постоянные перепады настроения, это приливы и отливы
эмоциональных состояний: вспышки радости и хандры, праздничный подъем и
приступы отчаяния. Наряду с неусыпным пульсированием живой мысли — вечное
борение чувств. Противоречия, странности, причуды — все это удивительнейшим
образом уживалось в нем рядом со строгой определенностью в делах творческих.
Слова, сказанные известным русским зодчим Василием Баженовым об одном из своих
приятелей— «в непостоянстве мнений и страстей своих пребывающий» — применимы
отчасти и к Енгибарову, он тоже пребывал в непостоянстве своих страстей,
настроение у него менялось по нескольку раз на дню. А вот что касается мнений,
то мнений своих не менял.
Жизнь и творчество, судьба и творчество — это для Енгибарова одно неразрывное
целое. Собственно, и жизнь-то свою он воспринимал как творчество. «Ужасно
хочется верить, что еще не поздно совершить что-то настоящее. Дать выход тому,
что бурлит в голове и сердце»,— сделал он дневниковую запись 23 августа 1966
года.
Да, обычными мерками эту личность не измеришь. Пожалуй, лучше всего о нем
сказать словами его же собственной новеллы «Листья»: он — из тех, которые «ни в
каких гербариях не фигурируют»...
«Авторский цирк»
Автор не только решает вопросы,
но и ставит их перед читателем
или публикой.
Ованес Туманян
Определить художественную значимость творческой личности возможно не только по
тому, что ею было создано, но беря в расчет и то, что замыслено. Знакомство с
«Авторским цирком» Енгибарова позволяет увидеть мастера арены в новом, более
ярком свете. Актер рассматривал эту работу как главную, этапную в своем
творчестве. Дошедший до нас материал, связанный с этой идеей, многое сказал об
огромнейших потенциальных возможностях героя нашего рассказа.
Итак, «Авторский цирк» — что он собой представляет?
Начинать придется издалека. Тройственная природа, или, как говорил Енгибаров,
триединство, то есть сочетание в одном лице трех творческих свойств:
авторского, режиссерского и исполнительского — известна издавна. Еще скоморохи
Древней Руси были одновременно и сочинителями «утехословия», иначе говоря,
своего репертуара, сами себе его ставили и сами же играли, да вдобавок сами
организовывали зрителей, участие которых тогда в представлении было
исключительно активным.
Тройственное начало осуществлялось в искусстве Лопе де Вега, Мольера, Шекспира.
В наше время ярким примером триединства могут служить фильмы Чарли Чаплина,
Жака Тати и Пьера Этекса. Небезынтересно, что все три знаменитости в прошлом
были связаны с пантомимой и цирком.
Когда Енгибаров впервые посмотрел кинокомедии Тати и Этекса, то был просто
восхищен неповторимостью их смехового мира. Цирковому клоуну захотелось
побольше узнать об этих художниках, столь импонирующих ему своим творчеством.
Он выяснил, что Жак Тати, русский по происхождению, во Францию попал ребенком.
До прихода в кино выступал на подмостках мюзик-холла как мим- эксцентрик.
Своему экранному герою Тати дал короткое «безнациональное» имя Юло с
прибавлением слова «господин». Господин Юло неразлучен с панамой, подержанным
плащом «реглан», какие носили в 20-х годах, и трубкой во рту, выступающей,
словно бушприт на носу корабля. Высок ростом и сутуловат, обстоятелен и
самоуглублен, он проходит своим скорым шагом или поспешает на велосипеде
выпуска начала века по каким-то своим делам. Господин Юло выглядит старомодным,
никак не вписывается в панораму большого города. Он забавен своим
несоответствием порядкам современного общества, с которым то и дело вступает в
комические столкновения. Конфликт с этим самым обществом и составляет смысловую
сущность характеристики его образа.
Герой Пьера Этекса — молодой человек, элегантный, воспитанный и вместе с тем
чудаковатый. Его экранный образ вобрал в себя многие черты такого рыжего
клоуна, который не прибегает к утрировке ни в костюме, ни в гриме. Енгибарову
были необычайно интересны и очень близки по духу авторские фильмы этих комиков,
их видение смешного, в основе которого — эксцентрическое переосмысление
действительности.
В советском киноискусстве тройственное начало наиболее ярко воплощалось в картинах
Василия Шукшина, который, к слову заметить, питал к Енгибарову дружеские
чувства и снимал в своих фильмах.
Рождению идеи «Авторского цирка» предшествовало следующее обстоятельство. Еще в
начале творческого пути Енгибарову случилось попасть в Ленинградский Дом кино
на просмотр нового фильма. Перед демонстрацией картины ведущий, но традиции,
представил зрителям только что созданное произведение, употребляя непривычный
на слух молодого артиста оборот речи: «авторский кинематограф», «авторская
лента».
Более широкое представление об этом получил из театроведческой литературы. В
искусстве 60-х годов наметилось новое направление — авторское кино и авторский
театр. Направление возникло на Западе как следствие того, что некоторые
даровитые киносценаристы и театральные драматурги, неудовлетворенные
режиссерским прочтением своих произведений, решили, что будут снимать и ставить
сами: «Свои идеи самим и воплощать». В результате авторское кино и авторский
театр дали немало ярких работ, полных художественного своеобразия.
С тех пор как Енгибаров сделался известным цирковым артистом, он стал остро
чувствовать, что рамки теперешнего амплуа уже тесны ему. Внутренняя тревога
усугублялась еще и тем, что вокруг его выступлений на манеже складывалось нечто
вроде конфликтной ситуации. Молодого коверного то и дело упрекали в том, что
репризы слишком длинны, пеняли, что манеж давно уже подготовлен для следующего
номера, а он все не уходит и не уходит. «Получается, что не вы для программы, а
программа для вас»—такое артист выслушивал чуть ли не в каждом городе.
Беседуя с рецензентом, Енгибаров заметил: «Мне не раз говорили, одни —
констатируя, другие — злясь, третьи — возмущаясь, что когда я работаю на арене,
то это становится чуть ли не главным в программе. Говорили, что так нельзя, не
принято, не годится...» Дело получало поистине парадоксальный оборот.
Популярность артиста все более и более возрастала, он давно уже стал «гвоздем»
программы, а ему на страницах профессионального журнала ворчливо вменялось в
вину, что «выходит в манеж не тотчас после очередного номера, когда униформа
готовит манеж к следующему, а когда униформисты уже покидают арену». В пример
ставили маститого Карандаша, который-де не боялся самой большой сутолоки и «был
виден, слышен, любим».
А вместе с тем непредвзятому глазу было видно, что миниатюры Енгибарова
вызывают столь большой интерес, что его непривычно длительное пребывание на
манеже не в тягость зрителям, а, напротив—в радость. «Да извинят меня некоторые
представители цирковых жанров,— не без иронии писал критик газеты «Вечерний
Баку»,— но в программе, где участвует Енгибаров, кое-какие номера кажутся
паузами, заполняющими выступления клоуна»
Впрочем, постоянные порицания за «узурпацию манежа», за стремление солировать,
а не «заполнять паузы» стали навлекать на себя едва ли не все наши коверные.
Это и впрямь стало характерным явлением в жизни советского цирка 60-х годов.
Исполнительская техника и идейно-художественный уровень репертуара мастеров
смеха настолько возросли, что одаренные комики стали, как и Енгибаров,
болезненно ощущать, но меткому выражению Андрея Николаева, «на своей шее
жесткий ошейник», привязывающий коверного к старой роли, точнее, к шаблонной
вековечной функции «заполнителей пауз». Все это было зримым отражением процесса
развития искусства клоунады, перешедшей к тому времени в новое качественное
состояние.
В защиту своих творческих прав выступили и другие ведущие артисты. Маковский и
Ротман, например, со всею определенностью заявили, что для коверных настали
новые времена, и теперь каждый их выход — это самостоятельный номер. «А ведь
для номера,— писали они,— нужно не только мастерство, но и соответствующая
обстановка... Требуется зафиксировать внимание аудитории, настроить ее на
нужную тональность. Но во многих программах это сделать невозможно, так как
клоуну непрерывно мешают — собирают и уносят реквизит, скатывают и вновь
разворачивают ковер, проверяют аппаратуру. От многих, даже самых лучших, с
нашей точки зрения, реприз и антре мы вынуждены отказаться, так как не можем
выкроить для себя необходимого промежутка между номерами... Хочется еще и еще
раз напомнить: клоун — не средство заполнения вакуума, он полноправный член
актерского ансамбля и должен иметь для своего выступления те же условия и ту же
обстановку, которые создаются в цирке для каждого номера»
Енгибаров шел еще дальше. Его уже не устраивала роль, как он выражался,
«затычки в программе». Клоун, считал Леонид,— это центральная фигура арены,
«своеобразный герой циркового представления. Серия исполняемых им миниатюр должна
стать стержнем всей программы». Воплотить в жизнь столь ответственную задачу
было возможно, лишь переменив характер деятельности, что, собственно, и сделал
впоследствии Андрей Николаев, создав для себя тематический спектакль «Я работаю
клоуном».
К исходу 60-х годов в творчестве Енгибарова наметилась новая ориентация —
стремление к крупным формам циркового искусства. «Если позаимствовать
терминологию у кинематографа применительно к манежу,— заявил он в интервью той
норы,— то мог бы сказать, что впредь намерен работать в области полнометражных
цирковых спектаклей».
Когда мысль о целостном клоунском спектакле вызрела в сознании Енгибарова,
сведения об «Авторском кино», дремавшие до норы в его памяти, вдруг напомнили о
себе. Да, конечно, «Авторский цирк» — вот наиболее верный путь проявления самой
сути того, что он задумал. Ведь он сможет давать сценическую жизнь тому, что
выйдет из-под его пера. При этом режиссерски будет так воплощать свои идеи, как
видит сам, как понимает, как подсказывает собственный опыт, художественное
чутье, вкус и чувство меры.
«Авторский цирк» был необходим ему как надежное средство самовыражения, громко
постучавшееся в сердце вскоре после памятной победы в Праге, когда он обрел
столь необходимую каждому художнику уверенность в себе. Сохранился ряд
высказываний артиста о творческом самовыражении, о потребности поделиться со
зрителями собственными взглядами на жизнь. Со временем потребность эта
становилась все острее, ему просто надобно было выговориться, поведать публике
о мире своей души,— о том, что его волнует.
«Я твердо знал,— говорил он,— чего хочу, знал, каким будет спектакль, из каких
зрелищных компонентов состоять, какие идейно-художественные цели преследовать».
В свой замысел Енгибаров охотно посвящал друзей: это должно быть веселое,
жизнерадостное действо, насыщенное юмором, лирическими сценами и цирковыми
трюками. Развиваться оно будет в стремительном темпе. У зрителей будет повод и
задуматься и взгрустнуть. И — снова динамика, калейдоскопическая смена ритмов и
впечатлений. Приглашая будущих зрителей к веселью, он вспоминал народные
балаганы — вот уж где умели развлекать!
«Сценарий мыслится как органичный сплав драматических и комических начал,—
говорил Енгибаров.— Подобного рода опыт у меня был в «Боксе» и «Статуе». Хотя
спектакль и не сатирический, тем не менее его острие будет направлено против
«людей скучных и самовлюбленных. Против тех, кто живет в шорах догм». Это
должно быть торжество здоровых сил жизни над безобразными, порочными,
уродливыми, столкновение добра и зла, хитрости и прямодушия. «Хочу владеть
зрительскими эмоциями на всех регистрах»... «Хочу, чтобы спектакль вызывал
эмоциональную встряску такой же силы, как шиллеровское «Коварство и любовь».
Созданию «Авторского цирка» предшествовало несколько работ Енгибарова: сценарии
двух детских представлений «Страна Фантазия» и «Мушкетеры будут в 12»,
тематические композиции «И в шутку и всерьез», «Звездный дождь» (премьера
состоялась в Ереване в конце 1970 года). К тому времени артист уже перешел из
цирка на эстраду, где создал «Эксцентрический театр». «Звездный дождь» по форме
представлял собой своеобразный коллаж из поэтического слова, пантомимы,
эквилибристики, жонглирования, акробатики и шуток. На просцениуме чтец исполнял
новеллы, написанные Енгибаровым, а он сам как бы комментировал их языком
цирковых трюков.
Следующей работой «Эксцентрического театра», в который теперь уже влилось
несколько молодых артистов и музыкальный ансамбль, стал спектакль «Причуды
клоуна». Сам Енгибаров охарактеризовал его как «калейдоскоп возможностей
человека». Одна из мыслей этого спектакля, по словам автора, «заключается в
том, что современный человек 70-х годов удивительно многообразен...».
И хотя обе постановки были хорошо приняты зрителями и прессой, они не принесли
полного творческого удовлетворения своему создателю. Ни «Звездный дождь», ни
«Причуды клоуна» не стали сюжетными спектаклями в прямом смысле этого слова.
Новеллы .в исполнении чтеца выполняли функции конферансных мостиков между
интермедиями и номерами, сделанными ранее. Артист же мечтал о целостном
произведении со сквозным сюжетом, с образами, со специально подготовленными
цирковыми номерами. И что еще важно отметить: все его творческие задумки но
«Авторскому цирку» были ориентированы не на фронтальную сценическую площадку, а
на круглый манеж. Несмотря на то, что Енгибаров уже приспособился к подмосткам,
несмотря на более высокий гонорар, получаемый на эстраде, душой он был
устремлен к цирку и сильно тосковал без него. Об этом щемящем чувстве людей
арены, отлученных от родной среды, хорошо сказал в своей книге «Вокруг манежа»
известный исследователь цирка А. Кобер: «Можно поместить артиста в замок
Рокфеллера и дать ему в придачу Вандербильдовские миллионы — он все равно,
когда приблизится весна, удерет из этого замка в свой цирк...»
Перед Енгибаровым встало много вопросов. В какой степени необходима сюжетность?
Какова мера вплетения в ткань спектакля других видов искусства? Допустима ли
театрализация? Возникали эти вопросы не на пустом месте. Из литературы и по
рассказам артистов старшего поколения он знал: не один и не два цирковых
корабля пошли ко дну из-за того, что были перегружены сюжетом. Знал он и о
бесплодном увлечении в 20-х годах театрализацией, иначе говоря, перенесением на
арену чужеродных живому и легкому цирковому искусству средств и приемов
драматической сцены. Помнил статью В. Э. Мейерхольда, который в бытность
комиссаром театров предостерегал от пагубности насаждения на манеже
театрализации огнем и мечом «варягов», то есть режиссеров со стороны, незнакомых
со спецификой циркового зрелища. «Цирк,— писал он,— не должен перестраиваться
по чужой указке. Реформа должна сложиться внутри цирка усилиями самих цирковых
артистов» (курсив мой.— Р. С.}.
Размышляя над сценарием, Енгибаров пришел к заключению: «Сюжету надлежит быть
простым и ясным, как в сказке». Многоплановость, сложные характеры, тонкие
мотивировки поступков, проникновение в глубины души человеческой — все это, по
его словам, пришло бы в столкновение с природой циркового искусства — искусства
условного, зрелищного по своей сути, а главное — фрагментарного. Но из
сказанного вовсе не следует, что сценарию угрожает примитивность. Напротив, его
гибкая форма позволит гармонично взаимодействовать героике и лирике, романтике
и гротеску, эксцентрике и буффонаде и даже элементам трагического. Однако,
выстраивая сюжетную линию, необходимо, говорил Енгибаров, строго придерживаться
законов именно циркового искусства и его эстетических принципов, где динамика и
изящество значат больше, чем психологизм.
Остро занимала его и проблема включения в сюжетную канву цирковых номеров. В
большинстве спектаклей, которые ему довелось видеть на манеже, номера были, что
называется, пришиты к сюжету белыми нитками. Опытные драматурги, памятуя об
этой «ахиллесовой пяте», строили спои сценарии в виде обозрений, ревю или в
форме, которую Эйзенштейн называл монтажом аттракционов. Действие умышленно
переносилось за кулисы цирка, либо на подмостки театра-варьете. Демонстрация
номеров оправдывалась заданными условиями: идет репетиция, просмотр, концерт.
Размышляя об этом, Енгибаров пришел к твердому убеждению: «Номера для циркового
спектакля нужно не притягивать за уши к сюжету, а непременно создавать
специально». И когда фабула уже обрисуется в общих чертах, приступить к
осуществлению и этого тезиса.
На создании сценария были сосредоточены все его душевные силы. Ему все время
приходилось мыслить за двоих: за «автора — как придумать и за режиссера — как
поставить». Выстраивая ситуации, разрабатывая характеры действующих лиц, логику
их взаимоотношений, Леонид творил с точным прицелом на последующее воплощение
материала на манеже.
Самой прочной художественной привязанностью актера оставались сказки. Вот
почему для дебюта «Авторского цирка» он решил создать спектакль по мотивам
произведений Андерсена, которые привлекали его своей мудростью, замысловатой
игрой фантазии, извечной человеческой жаждой победы добра над злом — словом,
тем, что в них ставятся коренные вопросы бытия.
«Сказка — всеобща,— говорил он,— взрослым она нужна, быть может, даже больше,
чем детям».
Вскоре, однако, этот замысел вытеснился другим. Енгибаров называл его условно
аристофановским. Сюжетную основу многих пьес «отца комедии» составляла
фантастическая или мифологическая среда, в которую вводился второй план,
прослаивающий действие жизненно- злободневными заставками. Енгибаров намечал
взять миф о двуликом Янусе и прочесть его современными глазами, чтобы «сюжет
свободно переходил от вековечной легенды к нашей действительности».
Творческая мысль артиста находилась в безостановочном движении. Подобно Джанни,
любимому герою из романа «Братья Земгано», он тоже испытывал «муки замысла»,
непрестанно думал о спектакле, им только и жил; порой казалось, что искомое уже
найдено, но какое- то время спустя его захватывала новая идея. Из интервью,
которые артист во множестве давал в эти годы, видно, как менялись темы будущих
спектаклей. Для одной газеты он излагает содержание сценария «о благородной
профессии народного шута». (Условное название «Здравствуй, это — я».} В нем
будут, как записал с его слов журналист, страницы «ретро» в виде мимолетных
картинок. К зрителям придут: Иван Балакирев — любимый шут Петра Великого,
Анатолий Дуров — «король шутов, но не шут королей», Виталий Лазаренко— «шут его
величества народа»... В другой газете читаю, что, оказывается, «на манеже
оживут такие герои, как Пушкин, Шекспир, Лорка. Хочется привлечь к созданию
этого спектакля молодых талантливых поэтов».
Метания от одной темы к другой закончились полной неожиданностью — намерением
рассказать языком цирка историю непростой и до поры неразделенной любви
современного молодого поэта, человека, далекого от житейских дел, витающего,
как говорится, в облаках,— к своенравной девушке, видной спортсменке, имеющей к
тому же солидного жениха. Идея родилась в поезде, по пути в Ереван. Енгибаров
стоял у вагонного окна, а рядом, у другого — парень на армянском читал девушке
вполголоса стихи. Что-то в облике юноши и в его манере жестикулировать и
подстегнуло воображение. Леонид тут же нафантазировал сюжет. Весь остаток пути,
отстраняясь от всех и всего, лежа на верхней полке, обдумывал в деталях
конструкцию будущего спектакля. Л когда приехал в Ереван, где он встретил, по
его признанию, свой самый счастливый Новый год — 1971-й — сценарий под условным
названием «Поэт» был уже разработан, оставалось лишь записать его.
В центре — три образа. Енгибаров называл их для себя — Он, Она и Соперник.
Своего героя автор намеревался показать человеком обаятельным. «Мне важно,—
говорил он,— чтобы зрители — и молодые и старшего возраста — полюбили его. В
характере моего Поэта есть трогательные черты: бесхитростность, например,
неуверенность в себе. Способный мыслить философски, в житейском отношении он
полный профан. И к тому же застенчив, неловок и близорук. Но душой «лирик».
Точку опоры для своего героя Енгибаров неожиданно нашел у Достоевского.
«Помните, как писатель в «Униженных и оскорбленных» аттестовал персонажа по
имени Николай Сергеевич? По его словам, это была личность наивно-романтического
склада. Уж если полюбит, то — цитирую по памяти,— «простирая свою привязанность
до комического». Представляете— обожать до комического!.. Вот он где зарыт,
золотой ключик! Им-то я и открою волшебный ларец образа. Ведь мой Поэт тоже
натура из романтических и тоже влюблен — до смешного».
Всякий раз, когда разговор заходил о «Поэте», Енгибаров подчеркивал: спектакль
мыслится как комедийный, и потому он постарается не упустить ни единой
возможности внести в него лишний забавный штрих. С этой целью герой, по
сценарию, попадает в ситуацию, которую автор, отталкиваясь от известной пьесы
Мольера «Лекарь поневоле», называл— «Балансер поневоле» и «Воздушный гимнаст
поневоле».
Драматургический ход «поневоле» издавна используется в самых различных
вариациях и театром, и кинематографом, и особенно цирком. Еще у Филипа Астлея
был придуман и с шумным успехом исполнялся конный скетч «Поездка портного в
Бренфорд», где принцип «лекаря поневоле» нашел яркое воплощение в
конно-комической акробатике. (С этого скетча, собственно, и начиналось
искусство конной клоунады.)
Суть приема «поневоле» проста. Человек, в силу тех или иных обстоятельств,
берется не за свое дело. Отсюда органично вытекает масса комических положений.
Нелишне заметить, что роль «неумелого» наездника или балансера — одна из
труднейших на манеже. Итак, герой Енгибарова неожиданным образом попадает под
купол цирка.
«Представьте себе,— рассказывал Енгибаров,— человека, который всю свою жизнь
был далек не только что от воздушной гимнастики, но даже простую физзарядку не
делал. И вдруг он — подумать страшно! — в самом цирковом поднебесье... Это, вне
сомнения, создаст ситуацию экстраординарную. И вместе с тем необыкновенно
смешную. Смешить в данном случае должен по закону комизма панический ужас,
который испытывает этот гимнаст поневоле, неуклюже пытающийся скрыть от
обожаемой девушки свое смятение. Чтобы не уронить себя в ее глазах, этот
«тридцать три несчастья» будет выполнять, вопреки чудовищному страху, на
головокружительной высоте, опасные (публике это хорошо видно) трюки». По
авторской мысли, там в сферическом пространстве должен разыгрываться на
воздушном снаряде миниспектакль, состоящий из целого ряда забавных положений. В
качестве иронического контрапункта зазвучит, например, похоронный марш, которым
будут сопровождаться действия смертельно перепуганного влюбленного.
Эта роль, помимо актерского мастерства, потребует еще и высокой
профессиональной техники. В «Авторском цирке» не могло быть и речи о каких-либо
ухищрениях или дублерах, которых издавна используют в кино и в цирковых
спектаклях. И, учитывая это, Енгибаров усиленно тренировался на трапеции, на
кольцах, на рамке; делал сложные гимнастические упражнения в руках ловитора.
«Хочется, чтобы этот воздушный акт,— прокомментировал он свой замысел,— хотя я
и задумал его как забавный, рассчитанный на смех,— вызывал у сидящих на месте
ощущение нешуточной опасности, заставлял волноваться, переживать за этого
наивного малого, столь несовместимого с воздушной гимнастикой».
Во второй сцене, «Балансер поневоле», Енгибаров должен изображать человека, которому
случилось впервые в жизни невесть как удерживать равновесие, стоя на проволоке.
Этот древний жанр, освоенный странствующими комедиантами за много-много
столетий до того, как появился современный цирк, Енгибаров избрал потому, что
его, как уже говорилось, все более и более влекло к себе ярчайшее своеобразие
народного армянского искусства. Особенно нравились ему ларахахцы — играющие
канатоходцы (лар — струна, хах—игра, представление). Он много читал о древнем,
но вечно молодом творчестве ларахахцев, которые искусно разыгрывали на канате,
куда помещали даже декорации, целые пьесы, отличаясь тем самым от канатоходцев
всех других народов.
Возвращаясь памятью к событиям той незабываемой поры, я вспомнил еще несколько
бесед с Леонидом Георгиевичем, относившихся к сценарию «Поэта». Как-то раз
встретил его в старом московском цирке на Цветном бульваре, он был необычно
весел:
«Придумал шикарный ход! В какой-то момент мой герой... тронется умом. Для чего?
Лишив его на время рассудка, я открываю для себя огромные сюжетные
возможности,— пояснил он.— Представляете, сколько эксцентрических поступков он
совершит в таком состоянии! Какой простор для гротесковых сопоставлений!»
Подумалось: да, амнезия, то есть потеря памяти,— | проверенное средство для
комических эскапад. Потому так часто используется оно на театральных
подмостках» и на киноэкране. Чаплин, помнится, дважды прибегал к| этому приему:
в первый раз в «Золотой лихорадке»,[ показав события на почве страшного голода,
и вторично! в «Новых временах» как следствие одуряющей системы конвейера.
Классик французского кино Рене Клер строил на амнезии всю забавную комедию
«Последний миллиардер».
По сценарию Енгибарова, Он, Она и Соперник — фигуры доминирующие, а радом с
ними действуют другие персонажи, вызванные к жизни исключительно для того,
чтобы подчеркивать тот или иной смысловой аспект, ту или иную грань их
характеров, это — аккомпанемент солирующим голосам. У каждого из них своя
логика поступков, свой ритм сценической жизни, своя линия физических действий и
чувствований.
«Мне не хотелось,— пояснял артист,— чтобы для зрителей этот спектакль был
очередной любовной историей с пресловутым треугольником в центре. Неудача в
любви — лишь один из мотивов конфликта. Через историю борьбы Поэта за сердце
своей возлюбленной должно просвечивать нечто большее, затрагивающее интересы не
трех человек, а многих из тех, кто сидит на зрительских местах. Забавные
лирические коллизии для меня — способ показать теневые стороны в отношениях
между людьми, затронуть моменты, которые мне представляются ненормальными —
вероломство, карьеризм, бездуховность, двуличие, неискренность... Ведь так же
вот и хороший клоун, прикидываясь дурнем, показывает человечеству какие-то
стороны неблагополучия мира».
Задача художника — побудить зрителей к соразмышлению над жизнью.
«Хотелось бы поделиться с аудиторией своими раздумьями. Это должен быть
спектакль о наших днях. Я бы так сказал: о современном по-современному».
Развивая свою мысль, он заметил, что намерен построить спектакль на контрастах,
кантиленные сцены должны сменяться динамичными и даже стремительными. «Эти
ритмы особенно близки современной молодежи». В композиции органично сольются:
веселое и грустное, раздумья и смелые поступки, притчевое иносказание и
конкретные человеческие судьбы, головокружительные трюки и неожиданные
сопоставления.
Енгибаров мечтал объединить в «Поэте» различные виды зрелищных искусств. По
этому поводу сохранился его любопытный рассказ: «Чтобы переводить суда по рекам
с разным уровнем воды, существуют сложные гидротехнические сооружения —
шлюзовые камеры. Чтобы сочетать два разных эстетических уровня, скажем,
вокальный шлягер и воздушную гимнастику, необходимо столь же остроумное и
надежное, как шлюз, художественное решение, ведь не все жанры способны свободно
уживаться в едином художественном организме. Иные из них обладают тканевой
несовместимостью».
Но синтезировать разные по стилистике произведения Искусства следует с оглядкой
и лишь в том случае, если этот союз сообщает им новое художественное качество.
«Я ищу возможность,— говорил он журналистам,— соединения на первый взгляд
несоединимого: цирка с театром, Кинематографом, литературой. Здесь бездна
неоткрытого». Творческие искания Енгибарова пришлись на нору, Когда многие
деятели театра, кино, эстрады и цирка энергично ставили опыты, сплавляли
различные жанры и Зрелищные формы, разрабатывали проблему синтеза сценических
искусств. В синтезе искусств видел и Енгибаров путь художественного обновления
цирка.
Жанр спектакля он охарактеризовал следующим образом: «Это живая поэтическая
фантазия полифонического звучания». Слову «поэтическая» придавал особое
значение, ибо все более и более чурался бытовизма, или, как сам говорил,
«зеркального отражения жизни». Именно в это время ему довелось посмотреть по
телевидению итальянский фильм-оперу «Тоска». Герои изъяснялись там в любви
возвышенным слогом, исполняя красивейшие арии, но действовали при этом в самых
натуральных интерьерах. Костюмы, аксессуары, мебель — все было подлинным, как и
положено киноискусству. И тут артисту вдруг открылось, по его собственному
выражению, «чудовищное несоответствие»: бытовая обстановка вступала в
непримиримое противоречие с условным жанром оперного искусства.
Под этим углом зрения Енгибаров пересмотрел сценарий и удалил все, что
оказалось решенным в бытовом ключе. Небезынтересно его рассуждение на этот
счет: «Бывает, читаешь лирическое стихотворение, и вдруг тебя покоробит
ворвавшийся в него прозаизм. Подобное, увы, случается и на манеже». В одной
цирковой пантомиме ему случилось увидеть, как действующие лица степенно
рассаживались за стол, а потом долго, со смаком трапезничали... Нет, в своем
спектакле он не допустит никакого натурализма, никаких бытовых подробностей! Да
и как ужиться унылой бытовщине, продолжал он, с поэтической условностью всего
строя «Поэта», по ходу действия которого на арене стоит дерево с листьями не
зеленого цвета, а золотого. И на ветвях этого дерева вместо красных яблок
произрастают... алые сердца. Уже само начало этого спектакля — эксцентрично:
огромное, чуть ли не во всю арену сердце из неоновых, багрово светящихся в
темноте трубок пронзит под забавно акцентированную музыку гигантская
электрострела, с наконечника которой одна за другой упадут три рубиновых капли.
В таком духе Енгибаров мыслил решить весь спектакль, преобразуя житейскую
логику в поэтические метафоры. Цирк, считал он,— искусство особенное. Здесь
подлинность происходящего тонко сгармонирована с условной образностью, той
самой, какая присуща и народному творчеству. А так как цирк по своим истокам
глубоко народен, то между ним и, скажем к примеру, работами палехских
художников существует определенная общность. В миниатюрах палешан мы любуемся
дивными красными конями. (Вероятно, этот образ возник под влиянием былинного
сюжета— «конь-огонь».) Городецкие художники украшают своих коней золотыми
яблоками, а жостовские — расписывают подносы фантастическими цветами, каких не
встретишь в природе. Помимо поэтической образности, цирк сближает с народным
искусством еще и тяготение к броским формам и ярким краскам. И цирк, и народное
искусство мыслят обобщенно, без детализации. И тому и другому свойственно
иносказание, непосредственность. Оба предпочитают говорить не прозой, а
стихами.
Для поэтических обобщений и фантазии, утверждал Енгибаров, наиболее пригодна
пантомима. Не случайно она так свободно чувствует себя на светлом пятачке
манежа, среди условной образности циркового зрелища. Пантомима, по его
убеждению,— искусство полюсное: на одном ее полюсе тяготение к сильным эмоциям,
к борениям страстей, будь то героика или романтика. А на другом — склонность к
юмору, к эксцентрике, к анекдотическим ситуациям, к беглым зарисовкам.
Итак, либо буйство страстей, либо анекдот. «А между этими двумя полюсами,—
говорил он,— простирается «мертвая зона». Середины у пантомимы, как я это
понимаю, нет».
Между тем пантомима ставит перед автором спектакля ряд непростых задач. И,
пожалуй, самая трудная из них — изложить сюжет, не пользуясь текстом. Причем
изложить так, чтобы зрителям не приходилось, по словам Енгибарова, отгадывать
ребусы. «В сюжетной цирковой пантомиме»,— развивал он свою мысль,— все
по-другому. Не так, как я привык. Мне ведь всегда приходилось оперировать лишь
монологами. А тут одни диалоги, причем без слов. Теперь вот осваиваю эту форму.
Ведь моим героям предстоит много лирико-комедийных объяснений. И все — на языке
пластики и циркового трюка. И ни в коем случае нельзя прибегать к жестикуляции
глухонемых. Тут изволь придумать такую ситуацию, чтобы в словах просто не было
нужды. Но это-то как раз и есть самое трудное в пантомиме. Вот уж кто
бесподобно умел выстраивать такую ситуацию, так это наш общий учитель, великий
Чаплин».
И еще одна проблема — как показать смену картин. Их в «Поэте» около двадцати.
Ведь занавеса нет. Не выпускать же пояснительное либретто, как это делается в
балете или бывало в старом цирке. А может, не мудрствуя лукаво, объявлять по
радио? Или поручить шпрехшталмейстеру — пусть сообщает: «Сцена третья. На
палубе корабля». А может, не шпрех, а конферансье с остроумным текстом? Или
лучше по-цирковому — клоун с набеленным лицом, прокладывающий стихотворные
мостики между эпизодами? Когда-то они мечтали с другом — поэтессой Беллой
Ахмадулиной — обручить поэзию и пантомиму: она читает со сцены специально
написанные стихи, а он исполняет близкие по духу пантомимические новеллы... Да,
на эстраде это могло бы получиться, но в цирке...
Наконец Енгибаров утвердился в мысли вводить зрителей в ход событий с помощью
титров, как некогда в немом кино: «Прошло две недели». Или: «В тот же день
вечером...» Он даже продумал, как технически проецировать с циркового купола на
манеж короткие надписи. Это было бы новинкой.
Особое внимание уделял он романтизации содержания, понимая, что приподнятость,
свойственная цирковому искусству, в высшей степени гармонирует с романтикой
наших трудовых будней. «Огромные возможности и новые приключения ждут моих
романтических и смешных (курсив мой.— Р. С.) героев,— писал он в «Последнем
раунде».— Это усилит контраст между трагическим и смешным, выплеснет и раскроет
перед зрителем чистые, нежные краски их чувств».
Заботился автор и об эмоциональном воздействии спектакля. «Зрителей, которые
пришли к нам в цирк после напряженного трудового дня, я хочу освежить приятным
душем ярких художественных впечатлений. Хочу быстро и решительно переключить их
эмоции из сферы бытовой — поездка в троллейбусе, вешалка, буфет, очередь,
мороженщицы, контролерши с программками — в мир дивной музыки, поэзии, игры
света, фантастики, юмора, живых современных ритмов, в мир удивительных чудес,
динамики, неожиданностей, в мир праздничной радости».
И вот пришла пора придать авторскому замыслу постановочное решение. Все чаще и
чаще занимали его вопросы режиссуры вообще и цирковой в частности. И тут самое
время поговорить о различии в принципах постановочной работы на сцене театра и
на цирковой арене.
Художественно-творческий процесс создания спектакля режиссером театра, кино и
цирка имеет много общего.
Это сходство особенно проявляется в выработке концепции будущего спектакля.
Каждый постановщик выявляет основную идею, которая поддерживается средствами
своего искусства, определяет линию сквозного действия; работает с актерами над
характерами действующих лиц, выстраивает мизансцены; вместе с художником
режиссер ищет зримый образ спектакля, с балетмейстером — пластический рисунок,
а с композитором — эмоционально-звуковую партитуру.
Однако режиссеры драматического и музыкального театров, кинематографа и цирка
оперируют неодинаковыми средствами выразительности, что и обусловливает
различие постановочного метода, применяемого на сцепе, на экране и на манеже, и
сказывается уже на разработке экспликации будущего спектакля.
Цирковая режиссура имеет прочные традиции, уходящие корнями к тем далеким дням,
когда цирк как вид искусства еще только создавался. Уже Филип Астлей ставил
батальные пантомимы. А когда следом за ним семья Франкони открыла свой
стационар в Париже, они также успешно осуществляли режиссуру крупных пантомим,
находя для них все новые и новые образные формы и стилевые решения. От Астлея и
Франкони эта традиция перешла к директорам больших и малых цирков во всем мире.
Тогда же, на заре циркового искусства, ищущие мастера арены предприняли первые
попытки создания художественного образа сперва в конных номерах, а позднее и в
других жанрах.
Мышление циркового режиссера опирается на глубокое знание индивидуальных
свойств каждого жанра и систему их взаимопроникновения. Хотя некоторые считают,
что нельзя успешно работать во всех жанрах: сначала ставить конный номер, затем
— клоунаду, после этого — акробатическую сюиту или воздушный полет. Однако если
постановщик берется за создание сюжетного спектакля, он обязан быть
компетентным и в цирковой специфике. Пренебрежение ею жестоко мстит за себя. Из
истории цирка известно немало случаев, когда опытные театральные режиссеры отваживались
на постановку крупных пантомим и, незнакомые с особенностями циркового
искусства, терпели фиаско.
Отличительной чертой цирковой режиссуры является в первую очередь мышление
трюковым действием, о котором достаточно подробно говорилось выше. Не владея им
профессионально, вряд ли возможно выстроить яркое зрелище по законам этого
искусства. И в самом деле, как воплотить на манеже сюжет «Блохи» Лескова или
пушкинский «Бахчисарайский фонтан»? Ясно, что режиссер, сохранив авторскую
фабулу, будет излагать содержание языком цирка, переведет все в иной образный
ряд. Вот почему редко кто из постановщиков имеет дело с готовым сценарием — его
приходится доводить в тесном содружестве с литераторами. Именно так работали В.
Ж. Труцци, Г. С. Венецианов, А. Г. Арнольд, Н. Н. Зиновьев.
В цирке уделяется значительно больше внимания, нежели в драматическом театре,
зрелищной стороне: световым и пиротехническим эффектам, магическим
исчезновениям и появлениям, ярким краскам, что вытекает из самой природы
циркового искусства. Сюда же относится и ритм действия — на арене он всегда
острей и динамичней.
Специфика архитектуры театрального здания и циркового тоже диктует свои
требования к организации пространства. Постановки, осуществляемые на различных
площадках, с разными проекциями — на сцене, при фронтальном обзоре, и на
манеже, при круговом — будут созданы, как тонко подметил В. Э. Мейерхольд, «по
законам далеко не одинаковым» (курсив мой.— Р. С.).
При общности постановочных принципов тем не менее каждый цирковой режиссер
имеет собственный творческий метод. Я сохранил записи некоторых высказываний
Леонида Енгибарова, характеризующих его взгляды на процесс создания сюжетного
спектакля. Например, он говорил о необходимости вкладывать в произведение
личный жизненный опыт и уметь художественно осмысливать его. «Создатель
спектакля вплетает в ткань своего творения собственное понимание
действительности, собственные чувства, горечь собственных ошибок. Не следует
бояться самообнажения. Искусство способно переплавлять индивидуальное в общее».
Интересовал его и уровень современности художественного произведения. «Когда бы
ни творил режиссер, к какому бы поколению ни принадлежал, он должен обладать
современным видением мира. Постановщик может не разделять «нынешних вкусов», но
не учитывать их в своей работе не имеет права, иначе у его творческой машины не
будет сцепления с почвой и она станет, как говорят автомобилисты,
пробуксовывать. Ведь цирковой режиссер, помимо того, что он художник, является
еще и хроникером своего времени». А вот слова, как бы адресованные самому себе:
«Обращайся не к абстрактному зрительному залу, а к своим современникам, чтобы
они находили в поступках героев спектакля мысли, волнующие их сегодня».
Для Енгибарова-режиссера характерно предметное видение вещей и явлений. Он был
способен живо вообразить всех персонажей своего сценария совершающими перед его
мысленным взором различные действия. Он видел себя и партнеров, по его словам,
крошечными человечками, которые движутся и живут словно бы по собственной воле.
«А я со стороны наблюдаю за этими мальчиками с пальчик. И частенько случается —
кто-то из них вдруг выкинет такое коленце, что только ахнешь... Вот так они
проигрывают передо мной целые сцены».
Режиссерские раскладки он излагал в схематических рисунках. «Я размещаю
действующих лиц в виде условно изображенных фигур по всему пространству
выведенного циркулем манежа. Для постороннего все это покажется чушью,
нагромождением детских каракулей. Для меня же этот лист — подробная разработка
определенной картины ».
Пожалуй, больше всего сохранилось высказываний Енгибарова о режиссерской работе
с актерами. Вероятно, эта тема много значила для него. «Отношения режиссера и
артиста,— поделился он однажды своей мыслью,— дело тонкое, быть может, тоньше
супружеских... Они строятся на взаимном уважении. Положим, одного уважения даже
мало. Я считаю: нужна взаимная влюбленность. Тогда песня сложится».
Режиссерский диктат только тормозит работу. «Мы, артисты,— народ легко ранимый.
И самолюбивы, как пуделя. Это не мои слова, это Горький сказал».
Работать с актером — это значит, по мнению Енгибарова, будить его фантазию,
подсказывать логику поступков. Задача режиссера — увлечь исполнителя роли своим
видением образа. И помочь ему найти живой характер, который станет его второй
натурой. К этой цели режиссер и актер идут рука об руку долгим путем поиска.
«В моем представлении их совместный труд похож на то, как двое мальчишек
увлеченно лепят снеговика. Один скатал туловище, второй — голову, первый
вставил пару угольков и — засверкали глаза; второй воткнул нос-морковку, и
снеговик задышал; первый прочертил рот от уха до уха — и снеговик улыбнулся;
второй надел на голову старую корзину — как же в такой холод без головного
убора! Один из мальчишек сунул ему под мышку метлу, другой приладил из осколков
стекла пуговицы. И наконец, в завершение оба вложили ему в руку коробку от
пельменей — транзистор. Пусть слушает рок-музыку!»
Цирковой спектакль — это комплексная система, цельная по своей структуре, куда
входит и авторская концепция, и динамично развивающееся действие, и разработка
характеров в их взаимосвязи. Важное место занимает в этой системе и
сценографическое решение. Именно поэтому Енгибарова- режиссера остро занимали
организационно-постановочные проблемы. Сохранилось несколько разрозненных
записей, сделанных его рукой:
«От замысла — даже если он и блестящ — до художественно совершенного спектакля
дистанция преогромнейшая».
«Опытные люди говорят, что собрать воедино бессчетное количество составных
частей спектакля в стройную конструкцию труднее, чем все это придумать»...
«В постановочном деле одной работоспособности недостаточно. Недостаточно и
непрестанного напряжения мысли. Нужна еще железная воля. Л более того —
мужество, чтобы довести начатое до конца».
Занимали его и сугубо практические вопросы, такие, например, как цена времени
на манеже. «Манеж,— записал он на полях программки,— не терпит вялого действия.
Если в кино минута равна минуте, то у нас — десяти минутам».
Нелишне сказать, что мысли Енгибарова о цирковой режиссуре не утратили
актуальности и сегодня.
Разрабатывая круг проблем, связанных с «Авторским цирком», Леонид Енгибаров
опирался главным образом на СБОЙ актерский опыт и художественную интуицию,
которая была развита у него чрезвычайно. События сценария, согласно
разработанной им режиссерской экспозиции, должны разворачиваться на «единой
производственной площади», вбирающей в себя кольцевой барьер, сам манеж, сцену
(ee имеет каждый стационар), обе лестницы, ведущие к сцене, подкупольное
пространство и все четыре прохода (два боковых, главный и тот, по которому
выходят участники программы). Некоторые эпизоды он планировал давать на круглой
платформе, так называемой фурке, которая могла бы мгновенно трансформироваться
то капитанский мостик, то в палубу, то становиться эстрадой для оркестра, то
балконом, то айсбергом. Фурка мыслилась как подвижная: по мере надобности ее
выкатывают в манеж или убирают.
Для обозначения места действия Енгибаров намерен был применять взамен декораций
выразительные детали и световые эффекты, и в частности — динамическую свето-
живопись. Леонид Георгиевич познакомился с ней в лаборатории
светохудожников-энтузиастов, которые интересно и плодотворно экспериментировали
над калейдоскопически меняющимся светоизображением. Цирковой артист высоко ценил
огромные сценографические возможности этой технической новинки.
Намечал он использовать и эффект теневого театра, который соблазнял его своими
удивительными возможностями достигать минимальными средствами максимума
художественных впечатлений. Енгибаров-режиссер считал, что в тех эпизодах, где
потребуется вести речь на языке поэтических обобщений, экран теневого театра с
его способностью показывать увеличенные человеческие фигуры без излишних
подробностей, в виде оживленных символов, незаменим. Среди других средств
выразительности его привлекали куклы, но не обычные, а гигантские, в два-три
человеческих роста: олицетворение войны, смерти, капитала.
Индивидуальный метод любого режиссера во многом определяют его художественные
пристрастия. У Акима Никитина, постановщика цирковых пантомим в дореволюционном
цирке, это были комические сцены; у Вильямса Труцци — затейливые эпизоды в
исполнении дрессированных лошадей; Георгий Венецианов любил стихотворные
монологи, а Леонид Енгибаров — детей, участвующих в спектакле.
Когда бы ни зашла речь во время наших бесед о будущей постановке, он всякий раз
сворачивал к одному и тому же — к сценам, в которых будут заняты маленькие
дети. Выть может, потому так часто возвращался Леонид к этой мысли, что видел в
моем лице сторонника. Да, мне тоже нравится детвора на манеже. Сцены, в которых
слаженно действуют костюмированные малыши, обладают огромной эмоциональной
силой. В дореволюционном цирке, к слову заметить, ни одна пантомима не
обходилась «без малолетних артистов.
Для своего сказочно-фантастического спектакля Енгибаров надумал несколько
прелестных эпизодов, в которых должна быть занята ребятня. В сцене «Среди
льдов» им предстояло изображать забавных пингвинов, увлеченно танцующих модную
тогда «Летку-енку»; в сцене «Сон героя» это — дюжина его сыновей и дочерей мал
мала меньше, а в сцене «Лаборатория энтомолога» маленькие человечки должны
предстать в живописном обличье бабочек, сверкающих жучков и комичных
сороконожек. Так и видишь эти сцены! Намечалось участие детей в пяти эпизодах.
Однако на этом пути перед создателем «Авторского цирка» встали многие
административно-организационные барьеры, преодолеть которые, впрочем, он был
исполнен твердой решимости.
Чтобы воплотить в жизнь замысел «Поэта», режиссер уже сделал первые шаги —
подобрал коллектив творческих единомышленников и приступил к репетициям
отдельных фрагментов будущего спектакля.
И вдруг — скорбная весть: неожиданно в ночь на 26 июля 1972 года в расцвете
жизненных сил Леонид Георгиевич Енгибаров умер...
«Авторский цирк» — уникальное художественное явление, какого еще не знал ни наш
манеж, ни западный,— остался прекрасной неспетой песней этого могучего таланта.
Год 1972-й начался как нельзя лучше. 14 января Енгибарова пригласили в
Постпредство Армянской ССР (Армянский переулок, 2) и там в торжественной
обстановке вручили грамоту о присвоении почетного звания — народный артист
Армянской ССР. А уже 2 февраля «Эксцентрический театр Леонида Енгибарова»
отправился в длительную гастрольную поездку. «Мы проехали от Дудинки до Ялты,
от Ужгорода до Красноярска»,— скажет он по возвращении в интервью радиостанции
«Юность», своем последнем интервью. Тридцать городов! По два-три выступления в
день... Такое напряжение, такую колоссальную духовную и физическую нагрузку
трудно даже вообразить.
Ведь на каждом концерте он отдавал зрителям себя всего. И только огромный успех
возвращал ему силы превозмогать все испытания кочевой жизни.
И вот наконец дома. Друзья советовали Леониду поехать на юг, отдохнуть,
покупаться в море. А он, сжигаемый нетерпением поскорее включиться в работу по
воплощению в жизнь «Авторского цирка»—любимого детища, с ходу погрузился в
организационные хлопоты и репетиции. Создать творческий организм такого
масштаба оказалось намного труднее, чем предполагал. На каждом шагу приходилось
преодолевать самые неожиданные препятствия.
Вот и надорвался.
Часто спрашивают, что же явилось причиной смерти Леонида Енгибарова? Ходит
много разноречивых толков. Чтобы внести ясность, приведу сведения, что
называется, из первых рук — со слов его матери. Разговор происходил в новой
квартире (огромный дом, в глубине двора, по улице Аргуновской, 18, вблизи
Останкинской башни). Леонид переселился сюда с матерью незадолго до смерти.
Мечтал обставить домашний очаг по своему вкусу. Но не успел; пришлось
отправиться в длительное гастрольное турне. Антонина Андриановна не захотела
без сына обживать квартиру: «Все здесь должно быть по-Лёнечкиному». Так в новом
жилище и остались лежать в коробках и ящиках многочисленные книги, не были повешены
на стены плакаты и подаренные художниками авторские работы, не заняли свои
места сувениры, портрет Андерсена и великолепная хрустальная ваза — первый приз
на Международном конкурсе клоунов имени Басса в Чехословакии. Квартира, увы,
так и не успела обрести приметы личности своего владельца, как это было там, во
флигеле, в любезной его сердцу Марьиной роще.
Нашу беседу я записал в своем дневнике: «23 октября 1972 года. Снова встретился
с Антониной Андриановной. Она и на этот раз все еще в состоянии глубокой
подавленности. Горе утраты вконец разбило ей сердце. Обычно приветливо-
хлопотливая, она теперь сидела отрешенная от всего. Наконец я собрался с духом
и спросил — как же все произошло? Из рассказа Антонины Андриановны узнал, что
сын вернулся из поездки простуженный, переносил на ногах ангину. «Ангина у него
часто бывает». И тем не менее каждое утро уходил на репетицию в «Зеленый театр»
на ВДНХ. Домой возвращался поздно ночью. За день до кончины пожаловался:
«Потянул мышцу». Чувствовал боль в лопатке. Был не в духе, ничего не ел.
Я спросила: «Может, позвать врача?» А он нервно: «Самый лучший врач—если ты
куда-нибудь уйдешь»... Ну, я, конечно, ушла к родственникам. Вернулась утром —
он в постели. Еда не тронута. «Может, поешь?»— «Попозднее». (Во время нашего
разговора повторяла сокрушенно: «Так и ушел, не поев...»). Раза два вставал,
ходил из угла в угол, Я видела: что-то с ним творится, видела — мучается. Он
скрывал... К вечеру ему все хуже и хуже. И тогда я вызвала «неотложку». Долго
не приезжали. Потом появился молоденький доктор и медсестра. Доктор увел меня в
другую комнату, стал расспрашивать: чем болел? что ел?.. Л я ему: «Доктор, это
потом, сделайте сперва укол какой- нибудь». Нет, знай расспрашивает. Отвечаю, а
сама одним глазом на Леню. Улыбается сестре. «Люблю, говорит, красивых
девушек»... В восемь часов его в первый раз скрючило — застонал и весь в комок
сжался. А вскоре — второй раз. Он крикнул что-то. Голос был очень тревожный. Я
разобрала только: «Рукописи...» Тут врач стал делать укол.
Но Леня был уже мертвый... Когда потом я стала его раздевать — увидела: вся
лопатка синяя-пресиняя».
Я попросил показать мне свидетельство о смерти. Там значилось: «Хроническая
ишемическая болезнь сердца».
«Какая же болезнь, когда врачи ему всегда говорили: с таким сердцем можно сто
лет прожить?» — И добавила, что когда сделали вскрытие, то оказалось: причиной
внезапной смерти стал тромб, как следствие болезни ангиной.
Небольшое послесловие. Как-то в начале января 1974 года поздно ночью дома у
меня раздался телефонный звонок. Женский голос спросил:
— Кем вам доводится Енгибарова Антонина Андриановна?
— Матерью моего друга. А в чем дело?
Женщина объяснила: к ним в больницу привезли подобранную на улице гражданку без
сознания. Документов при ней не оказалось, в кармане нашли открытку с моим
телефоном.
Да. открытка посылалась, в ней я просил Антонину Андриановну позвонить мне и
сообщал, что приобрел билеты в Большой театр (она — горячая поклонница балета).
Чтобы хоть немного отвлечь бедную женщину от черных дум, доставить какую-то
радость, я приглашал ее на спектакль.
10 января 1974 года Антонина Андриановна скончалась — скончалась от горя,
которого не смогла превозмочь...
Если бы собрать воедино все сказанное на смерть Леонида Енгибарова, то сложился
бы длинный скорбный некролог.
«Итак, Енгибаров вдруг очень высоко, на высокой ноте закончил свою жизнь»
(Ролан Быков). «Енгибаров великий поэт движения. Гений. Имя его стало легендой
(Марсель Марсо). «Леонид никогда не берег себя. Он прожил жизнь на зависть полнокровно.
Умер, как и жил; резко и быстро. Как будто сам себя сжег» (Ладислав Фиалка).
«Упал, как срубленное дерево. А сколько еще плодов могло принести это
дерево!..» (Карел Хегр, известный чехословацкий актер-клоун).
Владимир Высоцкий, словно предчувствуя и свой печальный конец, написал
стихотворение, посвященное Енгибарову, полное пронзительной боли и безысходного
трагизма:
«В сотнях тысяч ламп погасли свечи.
Барабана дробь и... тишина.
Слишком много он взвалил на плечи
Нашего.
И сломана спина.
Он застыл не где-то, не за морем —
Возле нас. Как бы прилег, устав...
Первый клоун захлебнулся горем.
Просто сил своих не рассчитав».
Ему было суждено прожить всего тридцать семь лет. Но сколько успел он сделать!
И как артист со своим голосом, искренним и чистым, и как одаренный литератор, и
как теоретик циркового юмора, и как перспективный режиссер.
Никогда не покроется ржавчиной забвения имя этой многогранной личности. Леонида
Енгибарова помнят и любят. Его творческое наследие продолжает жить. Оно более
значительно, чем мы пока еще осознаем. Многочисленные преемники развивают
утвержденное им новое направление в клоунаде. То в одном цирке, то в другом
выпускаются спектакли по сценариям этого выдающегося мастера арены. Его
прелестные литературные новеллы читаются с эстрады, их перекладывают на язык
танца и пантомимы, инсценируют. В стенах циркового училища ежегодно
устраиваются смотры- конкурсы юмора, эксцентрики и клоунады имени Леонида
Енгибарова. Всесоюзное и республиканское телевидение часто знакомит
сегодняшнего зрителя с искусством замечательного клоуна-мима, оно, по счастью,
сохранилось запечатленным на кинопленке. И в Советском Союзе и за рубежом
продолжают выходить не только статьи, очерки, исследования, воспоминания о нем,
но и художественные произведения: стихи, песни, повести и фильмы; пишутся
дипломные работы, проводятся вечера, посвященные его творчеству.
О своем искусстве Леонид Енгибаров рассуждал как знаток, как ученый. Его
взгляды на цирковой комизм оригинальны и глубоки. Долго еще цирковеды будут
изучать и анализировать его рассуждения об эксцентрике и драматургии номера, о
режиссуре и крупной постановочной пантомиме.
Сейчас особенно видна значимость для цирка художественных идей Енгибарова, его
установки на тематический спектакль как наиболее перспективную форму искусства
смелых и веселых.
Большое, как сказано, видится на расстоянии. Леонид Енгибаров украсил галерею
выдающихся мастеров смеха XX века. Подобно братьям Фрателлини, Гроку, Эммету
Келли и Чарли Ривельсу, подобно Анатолию Дурову, Виталию Лазаренко, Карандашу —
он остался клоуном на все времена.
ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ
1 Цит. по кн.: Очерки московской жизни. М., 1962, с. 216.
2 Плаче (Роланд) X. Высокое искусство смеха.— «Сов. Цирк» 3, с. 14.
3 Никулин Ю. Почти серьезно. М., 1979, с. 472.
4 Кобер А. Г. Гвоздь программы. Л., 1928, с. 95.
5 «Сов. эстрада и цирк». 1964, № 8, с. 17.
6 Румянцев М. На арене советского цирка. М., 1954, с. 114.
7 См.: Эйзенштейн С. Charli the kid.— В кн.: Чарльз Спенсер Чаплин М., 1945.
8 «Лит. газ.», 1985, 10 апр.
9 «Моск. комсомолец», 1967, 13 авг.
10 Енгибаров Л. Шар на ладони.— В кн.: Любимый цирк. М., 1974, с. 7.
11 Благов Ю. Советские клоуны, М., 1967, с. 39.
12 Никулин Ю. Чудесный сплав.— «Сов. эстрада и цирк», 1982, № 12, с. 4.
13 Карандаш. На арене советского цирка, с. 114.
14 Лихачев Д. С., Папченко А. М. Смеховой мир Древней Руси. Л., «Наука», 1976,
с. 5.
15 Попов А. Д. Воспоминания и размышления. М., 1963, с. 31. 10
16 В. И. Ленин и А. М. Горький. М., 1961, с. 316.
17 Кузнецов Е. Цирк. М.—Л., 1931, с. 90.
18 Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. М., 1975, с. 1015.
19 Макаров С. Советская клоунада. М., 1986, с. 13—29.
20 Венецианов Г. Победа коверного.— «Сов. цирк», 1959, № 10.
21 Зотов В. Вольтижерка,— «Отеч. зап.», 1849, т. 17, ЛЬ 11, с. 16.
22 Дуров А. Л. B жизни и на арене. Изд. 2-е. М., 1984, с. 133.
23 Светлов Ал, Десять лет советского цирка.— «Театр, клуб, кино», 1928, ЛЬ 3
(Одесса).
24 Кобер А. X. Вокруг манежа. Рукопись. Архив автора.
25 Жандо Д. История мирового цирка. М., 1984, с. 155.
26 Брент Д. Прошлое и настоящее.— «Сов. эстрада и цирк», 1970, № 1.
27 Клудский К, Жизнь на манеже. М., 1981, с. 151.
28 Жандо Д. История мирового цирка, с. 155.
29 Енгибарян Л. Последний раунд. Ереван, 1984, с. 4.
30 Рукавишников И. Задачи. Достижения. Ошибки.— «Цирк». 1925, № 4.
31 Феллини Ф. Делать фильм.— «Иностранная литература», 1981, № 10, с. 239.
32 Ильинский И. Оружием смеха.— «Правда», 1964, 5 июля.
33 Суворин А. О Чехове.— «Нов. Мир», 1980, № 1, с. 241.
34 «Вопр. лит.», 1980, с. 188.
35 «Огонек», 1985, № 14, с. 30.
36 Брехт Б. Театр. В 5-ти т., т. 5, полутом 2. М, «Искусство», 1965 с. 105.
37 Там же, с. 377.
38 Там же, с. 102.
39 Там же, с. 41.
40 Хогарт В. Анализ красоты. Л.— М., 1958, с. 27.
41 Босс Э. История одного клоуна.— «Сов. цирк», I960, № 5, с. 26.
42 «Coв. цирк», 1962, № 5.
43 Бояджиев Г. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Л,,«Искусство», 1973.
с. 91.
44 Чарльз Спенсер Чаплин, с. 178.
45 Там же.
46 Реми Т. Клоуны. М., «Искусство», 1965, с. 8.
47 Феллини Ф. Делать фильм.— «Иностранная литература» 1981, № 11, с. 237.
48 «Лит. учеба», 1978, № 5, с. 150.
49 «Веч. Баку», 1971, 8 февр.
50 «Сов. эстрада и цирк», 1972, № 7.
51 Там же, 1966, № 5.
52 Ковер Л. Вокруг манежа. Рукопись.
Приложение
ПЕРВЫЙ РАУНД – ПОСЛЕДНИЙ РАУНД
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Л. Г. ЕНГИБАРОВА
Автобиография
Родился я в Москве. Девять лет провел на ринге. Заповедь «ударили по правой
щеке, подставь левую» считаю в корне ошибочной.
Сменил множество профессий, и в двадцать два года мне оставалось только стать
актером. Писать начал тогда же, поневоле. Никто из авторов не хотел со мной
работать, пришлось самому стать сценаристом. Понравилось. Теперь с ужасом
думаю: а вдруг явится настоящий сценарист...
Люблю: море, осень... Винсента Ван-Гога.
Боюсь: благополучия.
Главное для меня в жизни — чувствовать ответственность за все совершающееся
вокруг нас.
Пожар
В городе был конец апреля; снег на улицах стаял, земля во дворах и скверах
просохла.
Чувствовалось, что вот-вот начнется... По ночам голые ветки деревьев
прислушивались: не началось ли уже?
И вдруг в одно тихое светлое утро где-то на подоконнике заброшенного чердака
зазеленел маленький листочек. Почти тотчас же зеленое пламя этого листочка
перекинулось на черневшие внизу газоны. Пламя, охватив газоны, понеслось
дальше. Вскоре запылали салатовым цветом березы, тополя, акации, изумрудный
огонь пробежал по кустам сирени.
На следующий день полыхал уже весь город. Ветер раскачивал зеленые клубы нежной
листвы, и весенний пожар разрастался.
Люди — особенно молодые — все-таки дети. Их предупреждают: не играйте с огнем,
- они не слушаются, и в результате во время весенних пожаров многие гибнут,
испепеляются. И только те, у кого сердце в старых ожогах, в огонь не лезут. Они
знают, что, когда подует северный ветер, холодные дожди погасят разгоревшиеся
по весне деревья и город из конца в конец подернется золотым осенним пеплом...
А впрочем, сейчас май, любимая, и, может быть, в этом году для нас не будет
осени?
Яблоня
Если немного постоять под колоннами Большого театра, примерно в восемь вечера,
за полчаса до выхода Плисецкой, потом дойти по улице Горького до памятника
Пушкину, спуститься бульварами к Трубной, деликатно не замечая влюбленных, и по
кирпичным аллеям скверов, завернутых в мягкую весеннюю зелень, добраться до
Марьиной Рощи, тогда за мостом железной дороги, там, где недавно стояли старые
домики, можно в вечерних сумерках увидеть белоснежную яблоню — балерину в
белоснежной пачке, одну среди ошалевшего от любви и преданности бурьяна, и
услышать овацию восхищенного электропоезда — с желтыми глазами- окнами,
проносящегося к далекому морю.
Наверное, некоторые мне скажут: «Зачем весь этот долгий путь, когда можно сесть
на такси?» Конечно, можно — только там, за мостом, вы ничего не увидите, потому
что будет еще светло.
Поговорили
Этого долго ждали, но когда это случилось, люди Земли оцепенели.
— Получены сигналы из космоса!
Старая грешная земля дождалась. Да! Ее услышали и ей ответили. Четыре миллиарда
землян не отходили от приемников и телевизоров. Забылись все их распри и споры.
15 марта 1985 года астроматематик из Бюракана Саркисян, автор эффекта
«свертывания пространства», услышал сообщение из космоса:
Миллионер
Иван стал миллионером.
Знаменитый солист циркового джаз-ансамбля лилипутов, самый маленький «ударник»
в мире (рост — 117 сантиметров) — миллионер! Об этом сообщила Ингорколлегия.
Иван Забияка (настоящая фамилия — Дятлов) стал обладателем трех миллионов
долларов, оставленных ему как единственному представителю стариной купеческой
династии Дятловых.
Эта заокеанская весть пришла перед началом спектакля. Тонкими голосами лилипуты
создавали атмосферу птичника, в котором кудахтал басом бывший борец,
руководитель коллектива:
— Иван, обмыть надо бы, чтоб все как у людей. Иван, симпатичный курносый малыш
с прямыми прядями длинных льняных волос, небрежно крикнул:
— Дон Диего Альварес, по прозвищу Быстрый!
Дон Диего, долговязый ассистент, всегда готовый к услугам, вырос из-под
барабана. Забияка выдал ему всю свою наличность.
Представление прошло «на ура», зрители не хотели отпускать Ивана Забияку за его
веселую песенку:
«Не тону в воде, не горю в огне, Потому что ты улыбнулась мне».
Наутро болела голова, но ему не надо было идти на репетицию. Какой же дурак
будет работать, если он миллионер?
Вчера труппа прощалась с Иваном. Совсем! Навсегда!
Не будет теперь «жлобов»-администраторов, не будет больше чужих
квартир-клоповников, бутербродов наспех, миллиона добрых улыбок, цветов, криков
«браво», не будет «заводной» работы, когда не замечаешь, как летят часы...
Ничего этого больше не будет.
— Молодой человек,— вывел Забияку из задумчивости человек в форме, сидевший
напротив.— Вы оставляете все деньги себе или часть жертвуете на что-то?
— Нет, нет! — сказал Забияка.— Я забираю все! Да, да, все три миллиона, и
покупаю себе на 15 лет постоянное место ударника Ивана Забияки.
Ладошками рук он ритмично застучал по столу, и стаканчик для карандашей и две
чернильных крышки подхватили его песенку:
«Не тону в воде, не горю в огне,
Потому что ты улыбнулась мне...»
Нет и Да
Я над пропастью между Нет и Да. Я иду к твоему Да по тонкому канату,
сплетенному из желаний, робости и любви. Он дрожит и качается, а подо мной
бездонное Одиночество, и Да, которое казалось таким заманчиво близким, теперь
кажется недостижимым. Но я иду, балансируя тяжелым шестом — Гордостью. И старый
добрый вальс Надежды, который всегда звучит при исполнении сложных номеров,
придает мне силы.
Я иду, стараясь не смотреть вниз и не думать, что, пока я иду к твоему Да,
может, кто-то уже поднялся к тебе на мостик.
Мне все труднее и труднее идти, меня качает ветер Отчаяния, и когда он
становится невыносим, ты вдруг совершенно неожиданно сама устремляешься ко мне.
Я роняю тяжелый шест. Ты обнимаешь меня, и мы падаем или летим на одну из ярких
звезд, включенных в ночной бесконечности.
— Милый,— говоришь ты, гладя мои волосы,— разве можно было так рисковать? Ты
мог бы сорваться туда, в ужасное Одиночество.
— Ты ведь вначале сказала «нет», и вот мне пришлось...
— Разве сказала? — удивляешься ты.— Я что-то не помню.
Интервью
Все необычно в гардеробной знаменитого укротителя, облепленной фотографиями его
партнеров — черных, как осенняя ночь, желтых, как песок Сахары, полосатых,
пятнистых.
Необычен и он сам, сорокапятилетний, высокий, с темно-серебристой шевелюрой и
карими смешливыми глазами.
Я спрашиваю его о том, что может заинтересовать, на мой взгляд, читателей
нашего журнала. Он великолепно рассказывает о своей профессии; в каждом
маленьком рассказе о его талантливых котятах (так он называет пантер, тигров и
львов} — обязательно смешные и забавные происшествия.
Он угощает меня армянским вином, потом начинает переодеваться. Снимает
роскошный, весь в сверкающих камнях, колет. Под колетом — обыкновенная белая
спортивная майка. Он снимает и майку. И я невольно вздрагиваю: все его тело в
каких-то неправдоподобных рваных рубцах. Взглянув на меня, он разражается
смехом:
— Да нет, это у меня не на работе, это — в сорок третьем, в гестапо.
Жонглер
Гремит барабан, рассыпается сухая дробь, между тремя булавами мечется фигурка
жонглера.
— Не урони! Не урони!
Три булавы вылетают из-за спины, выскакивают из-под ног, вот они над головой,
вот у самой земли, и то бешено крутятся, то будто замирают в воздухе.
— Не урони, как однажды уронил свое счастье. Эти три деревяшки забрали у тебя
все, а что дали взамен? Но об этом потом. Сейчас твои ладони в кровавых
трещинах, и беспощадные прожектора бьют, до слез бьют но глазам.
— Не урони! Ты жонглер! Сплети еще одно прекрасное кружево, выдумай еще одну
невероятную линию, которая мелькнет и исчезнет...
Потом, когда кончится дробь барабана и подойдет к концу жизнь, тебе скажут, что
ты был несчастлив в жизни, потому что ты всегда работал и ни на что другое у
тебя не оставалось времени.
Но зато ты делал невозможное — человек, чьи ладони в кровавых трещинах...
Разве это не Счастье?
Девчонке, которая умеет летать
Ты только не бойся. С тобой никогда ничего не случится, потому что у тебя два
сердца. Если в воздухе на секунду замрет одно, то рядом забьется второе.
Одно из них дала тебе твоя мать.
Она смогла это сделать потому, что девятнадцать лет назад сумела полюбить,
полюбить... Ты не смейся, это очень трудно — полюбить.
А второе сердце дал тебе я. Носи в груди мое шальное сердце.
И ничего не бойся.
Они рядом, если замрет на секунду одно, то забьется второе.
Только за меня не волнуйся, мне легко и прекрасно идти но земле, это понятно
каждому.
Мое сердце в твоей груди.
Аплодисменты
Каждый вечер в огромном зале я собираю тысячи аплодисментов, тысячи всплесков
человеческих рук, и охапками приношу их домой.
Ты сидишь на тахте с книжкой в руках, укрывшись пледом. Я включаю свет, чтобы
ты могла разглядеть то, что я принес, и закрываю окно, чтобы они не
разлетелись. Аплодисменты заполняют всю комнату, плещутся у твоих ног,
фонтанчиками взлетают к потолку, а ты радуешься как маленькая. Я сажусь в
кресло и жду, когда все утихнет и успокоится. Ты продолжаешь играть, и мне
становится грустно, потому что всякая игра рано или поздно надоедает.
Я встаю и распахиваю настежь окна, аплодисменты вырываются на улицу и
разлетаются.,. Минута, другая, вот и стих последний хлопок.
Я поворачиваюсь к тебе, хочу, чтоб ты меня разглядела, я устал, я голоден, и у
меня болят плечи... Но ты ничего не видишь и не слышишь, тебя оглушил огромный
зал и закрыл меня.
Завтра я снова пойду собирать для тебя то, без чего ты уже не можешь жить.
Сила искусства
Умирал старый жонглер Войцеховский. Да, в обычной гостинице, на обыкновенной
койке, рядом с обыкновенной больницей, которая была занята своими больничными
делами, и поэтому ей не было никакого дела до старого Войцеховского.
А умирал не кто-нибудь, умирал сам Вацек Войцеховский — «Король трех зонтов»...
Чему удивляться, разве не в провинциальной гостинице умерли Фредерик Леметр,
Орленев, Сальвини?
А теперь и Войцеховский.
Он был Королем трех зонтов.
У кровати стояли близкие. Васька — «каучук», Веников — «сатира» и Митрич
(помесь сенбернара с лайкой).
Плохо было Войцеховскому. Сердце подпрыгивало еле- еле, как шарик у жонглера.
И вдруг Ваську и Митрича осенила Идея. Они бросились по соседним номерам и
скоро принесли три разноцветных зонтика. Положили их перед Вацеком и оцепенели.
Вацек увидел зонтики, и у него навернулись на глаза слезы. Мы сняли кепки, а он
тихо встал, посмотрел вдаль и горько сказал: «Рано хороните Войцеховского,
Короля трех зонтов. Рано!» И пошел в душевую. Все облегченно вздохнули. Митрич
залаял, а Васька побежал за пивом.
Да, сила искусства — великая сила.
Квартира
Нет, вы не знаете, что такое чужая квартира. Для этого нужно родиться или
вором—«домушником», или артистом цирка, только в этом случае вы поймете всю
правоту народной мудрости: а Чужая квартира — потемки».
Представьте себе: вы приезжаете на гастроли с цирком в прекрасный южный город.
На бульварах растут фикусы, море пахнет аптекой, а из каждой собачьем будки
торча загорелые ноги курортников. Вас встречает администратор, который
заикается, суетится, жалуется на нехватку корма для зверей, на погоду и даже на
вас — рановато, дескать, прибыли...
На следующий день утром, после того, как вы переночевали в красном уголке
цирка, укрывшись стихотворным плакатом, вас приводят в вашу временную обитель и
знакомят с хозяйкой.
— Да... — говорит она, поджимая губы и собираясь с мыслями. Затем вам
сообщается, что вы не имеете права на... Следует примерно двадцать или тридцать
пунктов, в которые не входят лишь связь с африканской контрразведкой и сеансы
спиритизма. Вы довольны. Затем скрепя сердце хозяйка вручает вам связку ключей
и отмычек и вдалбливает вам в голову сравнительно краткую, но содержательную
инструкцию о том, как ими пользоваться.
...Подойдя к двери, вы обнаруживаете справа от нее зарешеченное окошко,
просовываете сквозь решетку полуметровый багор, который вам выдан, простым
движением от себя, вправо и вверх, отодвигаете острием багра дверной засов и
попадаете в прихожую. Запираете на засов дверь, идете прямо (налево соседи) и
отпираете дверь па кухню. Ключ от вашей комнаты будет находиться в третьем нижнем
ящике кухонного стола, ключ от ванной — под цветочным горшком, ключ от туалета
— под холодильником, свет в ванной включается у вас в комнате, свет в туалете—
в ванной. Как видите, все очень просто.
Вы благодарите хозяйку за все ее заботы о вас и спешите в цирк на премьеру.
Премьера проходит удачно, и
это неудивительно — ведь вот уже десять лет вы ежедневно исполняете один и тот
же номер.
Двумя-тремя стаканами разливного вина вы отмечаете свою удачу и по ночным
улицам спешите домой.
Вы попадаете в свою комнату через каких-нибудь 30—40 минут. Достав из чемодана
походную аптечку, замазав и перевязав синяки и легкие раны, полученные в
темноте на кухне и в прихожей от острых углов, вы отправляетесь, уже
вооруженный опытом, в обратный путь, чтобы запереть все двери на ночь.
Под утро приходит желанный сон.
Вам снится успех на международном конкурсе клоунады, вы выигрываете Гран-При.
Десятки репортеров и фотокорреспондентов, сотни поклонниц буквально разрывают
вас на части, они хватают вас за руки, трясут за плечи, дергают за воротник,
бьют по щекам...
...Вы открываете глаза, видите участкового милиционера, а из-за его спины
выглядывают полуодетые и сердитые люди. Все говорят одновременно, кричат,
энергично подталкивают вас, помогая одеться, и ведут в ближайшее отделение
милиции.
Через полчаса приезжает на выручку администратор со скорбным лицом, который
жалуется на ишиас, на судьбу и на вас за то, что вы хоть и правильно запомнили
номер дома и квартиру, но перепутали улицу.
Вальс
Когда Мирон Васильев поднялся на ринг, зал приветствовал его аплодисментами.
«Ну, заорали!..» —довольный, буркнул Мирон и стал тщательно натирать канифолью
подошвы своих ботинок.
Михаил Михайлович Сундуков, или попросту Сундук, тренер Мирона, налил
полстакана воды, дал отпить ему глоток и заботливо подставил ведро, куда Мирон
сплюнул, прополоскав горло. Сундук любил Мирона.
Он любил его за то, что тот был похож на него, Сундукова, в молодости. Они
одинаково понимали бокс. Бокс — это дыхание, удар, напор, и они это докажут:
Мирон сегодня станет чемпионом.
Сундук стал давать последние наставления. Они знали этого «интеллигента»,
который стоял в углу напротив.
Слово «интеллигент» у Сундука было последним ругательством. «Ты сильнее дави
его,— шептал он Мирону,— но не зарывайся, поймаешь на левой и тогда
выкладывайся...».
Раздался гонг, и боксеры сошлись.
Все вроде бы складывалось, как хотел Сундуков, Мирон атаковал. Он выложил
«интеллигенту» свои козыри — силу, скорость, умение держать удар, но в душе У
Сундукова появилась тревога. Нет, он не боялся за Мирона— «его и оглоблей не
собьешь»; и то, что Мирон проигрывает немного но очкам, также не волновало
тренера. Его тревожило то, что Аксентьев слишком уж копирует Мирона,
разговаривает с ним на его языке, ведет бой в том же ритме и в той же манере,
и, если он вдруг заговорит по-другому, Мирон не найдется что ответить.
Спокойный вид «очкарика» подтвердил его опасения, и, пытаясь успокоить себя,
Сундук зашептал: «Ну, Миня, снизу, сбоку, снизу».
Шла последняя минута первого раунда. Мирону было плохо, нет, он еще не получил
ни одного сильного удара, но ощущение, что «здесь что-то не так» сбивало его с
толку.
И вдруг... Аксентьев плавно заскользил вправо от него, мягко ломаясь в
корпусе,— и Мирон оказался в пустоте, Это был уже не привычный бой, а какой-то
вальс, легкий, тревожный, и мелодия его, печальная и грозная, вот-вот могла
оборваться. Мирон двинулся за противником и сам почувствовал, что он «выпал» из
ритма...
...Мирон открыл глаза и совсем рядом увидел лицо Сундука и Аксентьева. Аксентьев
вежливо улыбался, а Сундук мрачно жал ему руку.
— Не дотянул секунд пять.— Сплюнул Сундук, помогая Мирону пролезть под
канаты...
Из раздевалки Мирон пошел поздравить Аксентьева с победой.
У Аксентьева толпились друзья—«интеллигенты», которых так не любил Сундук.
Уходя, он задержал взгляд на книжке в раскрытом чемодане Анатолия. «Поль Элюар»
— прочел он про себя и подумал, что надо спросить у Сундука, когда и где дрался
этот самый Э-лю-ар.
В коридоре на Мирона с любопытством взглянула девушка, стройная, с пепельными
волосами, зеленоглазая.
Она постучала в гардеробную Анатолия, и Мирон почему- то вдруг вспомнил мелодию
вальса, который так резко оборвался на ринге.
«Потом надо не забыть спросить Сундука про Поля Элюара»,— подумал Мирон и вдруг
отчетливо понял, что не знает Сундук ничего ни про вальс, ни про то, как дрался
этот Элюар.
Он вошел в парк. Сырой весенний ветер размахивал голыми ветками тополей. И
Мирон подумал, что вот сейчас начнется длинный-длинный второй раунд, во время
которого он постарается узнать все-все — и про тот вальс, и про того Элюара.
Зависть
Я сижу у кромки летного поля на ранце своего парашюта. Утро. Светлое и очень
весеннее. Думаю о том, что я вовремя спрыгнул из-под чуть заметных облаков,
потому что на моих глазах начинается... Невидимая рука разбрызгивает
серебристые капли реактивных истребителей, и они все разом разлетаются с
аэродрома по голубому небу, которое скрипит и трещит на высоких ногах, еле
удерживая над землей хмельные от скорости машины. И они, если б не сдерживающий
их купол, хватили бы еще тысячу-другую километров, и не известно, нашли бы они
потом свою зеленую планету.
А пока они только учатся, и от этого достается многострадальному небу, оно
стонет и гудит под ударами реактивных стрел, но скоро истребители устают и
стекаются к аэродрому.
Грохот и гул еще трепещущих машин...
И наконец — тишина.
Весеннее поле и лес приходят в себя от какофонии, устроенной с утра человеком.
А в небо поднимается маленький четырехкрылый самолет и стрекочет, как старенькая
швейная машина, и кажется, зашивает распоротое истребителями небо.
— Так-так-так-так-так,— мелко стучит мотор, оставляя швы из белых хлопьев,
которые медленно тают...
Небо починено, небо сверкает как новенькое, а остатки белой пряжи самолет
сбрасывает на землю.
Хлопья пряжи, расправляясь от порывов ветра, превращаются в серебристые
парашюты. Они еще немного покачаются над землей, пока мягко не шлепнутся на
опушку леса, в теплую траву.
А зеленый самолетик, приземлившись, стоит недалеко от реактивных птиц, которые
снова готовятся к полету, и понимает, что сколько бы он ни чинил для них небо,
они все рано или поздно прорвут голубой купол и умчатся туда, где нет ромашек и
клевера, нет мягких облаков, где ночью сверкают чужие беспощадные солнца, где
никогда им не будет лучше, чем на земле.
«Зачем все это?» — ворчу я, собирая свой ранец. «Действительно, глупо»,—
соглашается со мной зеленый самолетик, и я ухожу, чтобы скрыть горькие слезы,
которые так трудно удержать, слезы обиды и доброй зависти, что это они, а не я.
В бою ничьих не бывает
Третий раунд. Через минуту. Тот самый, который решит бой. Я сажусь, нет, падаю
на табуретку в своем углу. А через минуту, нет, уже через пятьдесят секунд... В
углу напротив — твой противник и твой друг Толька Завьялов. Его боковые — это
все равно что вращающийся пропеллер самолета. Осталось тридцать секунд. Все
знаю: надо разрывать дистанцию и бить сухо слева, справа, слева и снова кружить
по рингу. Осталось двадцать секунд. Черт с ним, с этим Толькой, ну будет у меня
не 124 победы, а столько, сколько было — 123. Тоже ведь немало. Осталось
пятнадцать секунд — третий раунд, мучительный, долгий и безжалостный... И тогда
старый боец, мой тренер, добрый и мудрый наставник, находит нужные слова:
«Встань, малыш, встань, и будь мужчиной, ибо в бою ничьих не бывает».
Теперь, спустя много лет, я уже не помню, выиграл я у Тольки Завьялова или нет,
помню только, что я встал.
Сердце
(В Ереване)
К художнику пришла старость. Стало болеть сердце. Художник вышел из дома,
поправил длинные пряди седых волос и, прищурив глаза от солнца, пошел к своему
другу каменщику.
— Здравствуй, Акоп,— сказал художник,— мы дружим с тобой много лет и многое
знаем, ты — о камне, я — о человеческом сердце. Людские сердца бывают самые
разные. Бывают чистые, как горный хрусталь, бывают драгоценные, излучающие
свет, как рубин, бывают твердые, как алмаз, или нежные, как малахит. Я знаю,
есть и другие, пустые, как морская галька, или шершавые, как пемза. Скажи,
мастер, из какого же камня мое сердце?
Каменщик раскурил трубку и ответил;
— Твое сердце из туфа. Ты не должен печалиться, что оно не такое твердое, как
алмаз. Туф — редкий камень, он дает людям тепло, а болит твое сердце потому,
что туф ранимый и все невзгоды оставляют на нем свои следы. Туф — это камень
для тебя, для художника.
Они еще долго сидели, глядя на город, раскинувшийся перед ними, прекрасный,
туфовый, хранящий в своих строениях сердца его создателей — каменщиков и
художников.
Тень
Я прошу тебя: оставь мне, пожалуйста, свою тень. В платье, украшенном
солнечными бликами, пробившимися сквозь кленовую листву.
Оставь мне свою тень, ведь завтра взойдет солнце, и у тебя будет точно такая же
прекрасная тень.
Не бойся, я не буду смотреть на землю, чтобы нечаянно не увидеть, как твоя тень
положит свои руки на чьи-то плечи.
Нет, я буду беречь твою тонкую стройную тень, а когда пойдет дождь, я верну ее
тебе, и ты, гордая, пойдешь
Признание
Опали с деревьев листья, и высохли травы и цветы. Вот что ты сделала со мной,
когда перестала смотреть на меня. Не будет больше снега и дождя. И солнце
распухло и стало исполинским. Вот что ты сделала со мной, когда перестала
целовать меня. Море затянуло ряской, и река обмелела. Вот что ты сделала со
мной, когда ушла от меня, люди вокруг меня видят совсем другую землю — осеннюю,
добрую, золотисто-зеленую, и только я брожу по дорогам, где в пыли валяются
мертвые жаворонки Вот что ты сделала со мной, когда перестала любить меня.
Тореадор
Она его любила.
Она знала, что он самый искусный тореро.
Он лучше всех владел мулетой, а сверкающая шпага казалась продолжением его
гибкой руки. Но хотя он был самым ловким и быстрым, красивым и бесстрашным, он
так и не стал знаменитым матадором.
Для матадора он не умел самого главного.
Он не умел убивать.
И за это она его любила.
Окно
Окна. За каждым из них люди. И окна рассказывают нам о них. Это стены и двери
бывают непроницаемыми, а окна всегда немножечко предатели.
Послушайте историю, которую рассказало мне одно окно.
Свет в этом окне иногда горел допоздна, а иногда дня два-три подряд вообще не
зажигался. На подоконнике всегда валялись трубки чертежей, стояли бутылки
из-под кефира, изредка — из-под вина.
Но однажды на окне забелела занавеска, правда, очень уж красиво-скучная, а на
подоконнике появилась герань с ядовито-зеленым и листьями и
болезненно-розоватыми, похожими на синяки цветами.
Не прошло, однако, и месяца, как занавеска и герань исчезли, и за мутным от
пыли стеклом завиднелись бутылки из-под кефира и трубки чертежей.
От этого стало почему-то очень грустно.
Потом пришла весна — она ведь обязательно когда- нибудь да приходит. И вдруг
окно распахнулось, и показалась белокурая незнакомая девчушка. Она весело и
звонко рассмеялась и поставила на подоконник полевые цветы. Я радостно
улыбнулся в ответ и с легким сердцем отправился по своим делам.
Потом я уехал и долго странствовал.
Года через четыре, вернувшись домой, я, конечно же, посмотрел на знакомое
окно...
Маленький художник, высунув язык, дорисовывал на чистом стекле окна чудесную
картину: синее-синее море и белый-белый пароход с трубой, из которой валит
черный дым, а над ними — красное солнце,. лучи которого устремлены во все
стороны. Мне эта картина пришлась по душе.
Зонтик
...Немного помолчав, она сказала: «Но нам же негде жить, у нас нет дома».
Он рассмеялся и сказал, что у него есть зонтик, совсем новый, который сам
раскрывается, если нажать кнопку, И зонтик — это прекрасный дом, очень уютный
для двоих. Правда, у него нет стен, но зато стоит протянуть руку, и вы узнаете,
какое на улице время года, например прошла весна или все еще идет.
С таким домом, как зонтик, удобно путешествовать, приятно слушать дождь и
еще...
Но она не спросила: «Что еще?..»— и ушла к другому, у которого была
однокомнатная квартира со всеми удобствами, но, наверное, все-таки не было
такого зонтика, а если и был, то, согласитесь, зачем человеку два дома, это же
смешно...
Теперь, спустя много лет, она наконец поняла, какой это был чудесный зонтик,
маленький парашют, держась за который вдвоем, можно улететь далеко-далеко,
особенно в дождливые дни...
И она тоскует в своей уже трехкомнатной квартире, потому что чем больше
квартира, тем дальше друг от друга те, кто в ней живут, и когда идет дождь, она
готова броситься вниз, чтобы разыскать свой зонтик, но разве с пятнадцатого
этажа узнаешь, какой зонтик — твой?
А если и узнаешь, то ведь не известно, исправно ли сегодня работает лифт.
Твое лицо
Чтобы нарисовать тебя, я выберу тихое лесное озеро в зеленой камышовой раме и
буду ждать, когда настанет светлое сентябрьское утро, и чтобы обязательно пахло
мятой и сосновыми иглами. Тогда я примусь за работу.
Сначала я нарисую глаза: для этого у меня в запасе синие кусочки горячего
июльского неба.
У корней осины я соберу черно-зеленые веточки мха и тихонечко опущу их в воду —
это будут твои ресницы и брови.
Губы твои я выложу большими лепестками озерных лилий, а тонкие стебли их
обрисуют овал лица, твой носик и волосы. Чуть не забыл: чтобы оживить лицо,
нужен какой- то теплый оттенок... Я пущу по воде нежно-багряные семена шиповника.
Так лучше.
Потом я возьму маленький чистый камешек и осторожно брошу его к верхнему краю
рамы — по воде пойдут чуть заметные волны — это будет твоя улыбка.
Картина почти готова.
Добавлю еще немного щебета лесных птиц, а по углам разбросаю несколько нитей
осенней лесной паутины, это придаст картине старинный вид...
Я покину маленькое озеро лишь поздней осенью, когда картина покроется тонким
ледяным стеклом, тогда можно будет вздохнуть спокойно.
Весной ты придешь в лес за подснежниками и увидишь себя в озере. Не удивляйся:
«Кто это сделал?»
Это я. Теперь тебе все понятно?
Микрофон
А что такое человек без меня? — рассуждал микрофон. — Никто не может обойтись
без меня — ни певица, ни комментатор, ни космонавт! Это я, микрофон, разношу их
голоса по планете, это передо мной все волнуются и дрожат!
И тогда человек стал время от времени выключать микрофон, и тот стал скромнее —
понял: совсем не обязательно человеку пользоваться им все время.
Больше того, самые главные слова люди всегда будут говорить без микрофона.
Какие именно?
Ну, например: «Я вас люблю!..»
Желтая роза
Всю жизнь меня окружали цветы. Я сам часто дарил цветы, но чаще дарили мне (не
потому, что хороший, просто такое уж у меня ремесло).
Мне кидали их на сцену. И все их я помню и люблю. И гордые гладиолусы, которые
молчали даже тогда, когда ломались их хрупкие стебли, и скромные гвоздики,
такие счастливые, когда их поднимаешь над головой, печальные и добрые георгины,
болтливые ромашки, томные лилии, желанные пунцовые розы, готовые даже в
счастливые для вас минуты исподтишка выпустить свои шипы, и многие-многие
другие. Я их все люблю и помню.
Но одну желтую розу я люблю и помню больше всех. Это была желтая роза с
опаленными лепестками, с лепестками, сожженными по краям.
Среди тысяч и тысяч цветов я люблю одну желтую розу, отмеченную пламенем, и не
за то, что обожжена (с кем этого не бывает?), а за то, что огонь шел изнутри.
После концерта
После концерта я ужинал в маленьком ресторане. За соседним столиком встали,
закончив ужинать, мужчина и женщина. Нерешительно они подошли ко мне.
«Простите, пожалуйста,— сказала она,— большое вам спасибо за сегодняшний вечер
в театре. Это вам», протянула мне огромную красную розу на длинном стебле.
Я поблагодарил и скоро сам, закончив ужинать, вышел на вечерний главный
проспект.
Я решил кому-нибудь подарить мой чудо-цветок, Я не мог отнести его домой,
потому что он только подчеркнул бы убожество моей холостяцкой каморки.
Навстречу мне шла длинноногая девушка в легком весеннем платье. Я осторожно
сделал шаг в ее сторону, вежливо извинился и с -улыбкой протянул ей
благоухающий цветок. Она резко отвернулась и пошла своей дорогой.
Я подумал, что, может быть, у нее неприятности или она неправильно меня поняла,
и решил подарить розу женщине постарше.
Я выбрал женщину средних лет, извинился, протянул ей похожий на факел цветок.
Она грустно улыбнулась и, покачав головой сказала:
«Выбрал бы ты себе, сынок, кого-нибудь помоложе ».
Я завернул в сквер. На одной из скамеек сидели, обнявшись, парень и девушка. Я
подошел к ним: «Ребята, я желаю вам счастья, это от меня». Бедная моя роза...
Парень угрожающе приподнялся: «А ну отойдем!..»
И опять я остался один. Вдруг мне пришла в голову мысль. Я подошел к пожилому
мужчине: «Простите пожалуйста, кажется, у вас есть дочь или невестка...
Подарите ей это от меня!»
«Во-первых, это моя жена» — прогремело в ответ...
Что «во-вторых»,— я не стал слушать.
Я решил, что моя роза никому не нужна...
Но вдруг возле меня остановился розовощекий малыш. Я присел и спросил его:
«Тебе нравится? Возьми!»
И я протянул ему розу, похожую, наверное, на огромную погремушку. Он весело
заулыбался и схватил цветок за стебель.
Я рассмеялся и пошел домой. Выходя из сквера, я обернулся. Малыша позвала мама
и — о, какая досада! — он выпустил цветок из рук и побежал к ней.
А красная роза на длинном стебле осталась лежать на мокром черном асфальте.
Трудно в большом городе дарить цветы.
А может быть, правда, что дареное не дарят?
Фонтаны
По утрам в большом осеннем парке я встречал человека, который подстригал
фонтаны, у него были кожаный фартук, большие мокрые ножницы и деревянная
расческа.
Он ходил вдоль фонтанов, которых было в парке очень много, и подстригал
ножницами водяные струи. Но вода капризна, она оставалась на том же уровне... А
самое удивительное, что на лице этого человека не было раздражения, скорее,
наоборот - однажды, когда он закончил свою работу, мы встретились с ним в кафе
за стаканом вина. Я спросил его, почему он выбрал такую странную профессию.
Он подумал и, прищурив глаза, сказал, что на свете много профессий гораздо
более бесполезных и много профессий совсем ненужных. И особенно часто люди
любят подрезать, подстригать и вообще подравнивать, а это так тоскливо и
неинтересно. Ну, скажите, кому правятся подстриженные деревья? — И, может быть,
главное в моей профессии,— сказал, улыбнувшись, человек, который подстригал
фонтаны,— чтобы люди, придя в парк, поняли: не все на свете молено стричь, а уж
тем более — под одну гребенку.
Крик
По голой земле мела первая поземка. Голые деревья дрожали верхушками, небо было
серым и только у горизонта чуть светилось. Море плевалось в берег рябью белых
гребешков. Почерневшие домишки с обшарпанными палисадниками насупились плотно
закрытыми окнами.
Одинокий крик стлался над берегом. «Не хочу так жить! Не хочу!..» — причитала
молодая женщина в старом платье, привалившись грудью к палисаднику, увешанному
линялыми стеблями кукурузы.
«Не хочу так жить!» — в крике было все: и пьяный муж, и тоска по другой,
интересной жизни, и обида за потерянные годы, и страх перед огромной холодной
зимой.
Из дома вышла старуха и стала что-то тихо говорить женщине. Может быть, старуха
ей сказала, что криком не поможешь, а может быть, о том, как сама когда-то
горевала, а потом все обошлось.
С моря подуло сильнее, посыпала мелкая снежная крупа, стало темнеть. Все живое
смирилось с наступающим мраком и заглохло, замерло.
И только остался звенящий протест человека, отчаянный вызов бедам и горю: «Не
хо-чу так жи-ить!»
Моя знакомая
Моей знакомой из третьего подъезда шесть лет. «Знаешь,— сказала она мне как-то
утром,— наш дом похож на бутерброд». Я посмотрел на нижний этаж, где висела
вывеска «Хлеб», и согласился. «Ну а девять этажей — что?» — решил уточнить я.
Оказалось, девять этажей — это сыр, колбаса (вареная и копченая), паштет и т,
д., в зависимости от того, что на каком этаже было на завтрак.
К дому-бутерброду подъехала машина «Молоко».
Утро жизни. Все кажется вкусным.
И мне вдруг стало стыдно, что я так много позабыл.
Я поскакал немного на одной ноге со своей знакомой по «классикам» и с аппетитом
пошел на работу.
Страна фантазия
Я могу рассказать и даже показать, как это делается, потому что я бывал в
стране фантазии. Главное — чтобы не было скучно, а потом... Возьмите, например,
что-нибудь самое обыкновенное, ну, скажем, метлу. Теперь повертите ее в руках.
Как видите, это уже не метла, а гитара. Теперь вскиньте ее на плечо. Как
видите, она уже винтовка. Ваша метла может превратиться в секиру, и тогда вы
будете отброшены на пятьсот лет назад. Затем она внезапно становится хоккейной
клюшкой и через секунду — плакатом болельщика, поддерживающего любимую
команду... Но вот хоккейный матч отгремел, и ваша метла уже просто метла,
которой пожилой человек, некогда мечтавший, быть может, стать хоккейной звездой,
подметает трибуны.
Когда вы справитесь с метлой, возьмите что-нибудь посложнее, например уличный
фонарь... Он умеет превращаться в мечту и уносить далеко-далеко...
Если получится и это, тогда вы можете взять звездное небо, очень похожее на
сито, черное сито с неровными дырочками. Просейте сквозь него все ваши фантазии
и покажите их друзьям. И если в глазах друзей вы увидите светлые капли грусти
от смеха, смешанного с печалью, значит, вы уже...
Однако главное — чтобы не было скучно.
Сказочник
Всю ночь в огромном доме светилось одно окно. За окном жил сказочник (некоторые
называли его поэтом); он писал сказки и дарил их людям, потому что без сказок
людям живется трудно.
У него на столе лежало много разноцветных карандашей. Страшные сказки он писал
черными карандашами, а веселые — красными, желтыми, зелеными, белыми. Но
однажды... какой- то злой и неумный человек взял и похитил все эти карандаши.
Он оставил сказочнику только черные и белые и, уходя, сказал: «Вот теперь он
будет писать так, как надо!»
Долго стоял опечаленный художник у своего опустевшего стола, потом поднял
воротник куртки, погасил лампу и вышел. Он шел, не зная куда. Он медленно шел
под дождем по своему городу.
Когда он устал и остановился, к его щеке прилип мокрый березовый листок, и он
увидел, что листок темно-зеленый, затем он увидел, что асфальт
серебристо-серый, горизонт уже светло-голубой, а крыши чистые,
черепично-красные.
Он улыбнулся, собрал все эти краски и вернулся домой.
Он снова пишет.
Он снова счастлив.
Не обижайте человека
Зря, просто так обижать человека не надо. Потому что это очень опасно. А вдруг
он Моцарт? К тому же еще не успевший ничего написать, даже «Турецкий марш». Вы
его обидите — он и вовсе ничего не напишет. Не напишет один, потом другой, и на
свете будет меньше прекрасной музыки, меньше светлых чувств и мыслей, а значит,
и меньше хороших людей.
Конечно, иного можно и обидеть, ведь не каждый человек — Моцарт, и все же не
надо: а вдруг...
Не обижайте человека, не надо.
Вы такие же, как он.
Берегите друг друга, люди!
Содержание
Большой клоун 49
Детство и юность 53
В начале пути 66
Зрелость 114
Репертуар 147
Красноречивое молчание 197
С пером в руке 225
Личность 234
«Авторский цирк» 250
Ссылки на источники 275
Приложение
Первый раунд — Последний раунд 277
Славский Р. Е.
Леонид Енгибаров.— М.: С 47 Искусство, 1989 (IV кв.) 303 с., [24] л. ил.
Краткой оказалась творческая жизнь Леонида Енгибарова, по столько било сделано
в цирковой клоунаде, пантомиме на эстраде, и литературе, что его судьба стала
легендой. Об этом рассказал цирковой писатель Р. Славский, опираясь на личные
впечатления, архивные документы и многолетнюю дружбу г артистом. Рассказ о
творчестве Енгибарова дополняют его высказывания об искусстве клоунады, письма
к родным и друзьям, которые публикуются впервые. В «Приложении» напечатаны его
лирические миниатюры, ранее опубликованные в сборниках «Первый раунд»,
«Последний раунд» Книга иллюстрирована малоизвестными фотографиями. Рассчитана
на широкий круг читателей.
РУДОЛЬФ ЕВГЕНЬЕВИЧ СЛАВСКИЙ
ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ
Редактор Н. Т. ФИНОГЕНОВА. Художник В. М. РАДЕЦКИЙ. Художественный редактор Л.
И. ОРЛОВА. Технический редактор Т. Е. ЦЕРЕТЕЛИ. Корректоры Н. А. МЕДВЕДЕВА, Н.
Г. РЯЗАНОВА И.В. 4080. Сдано в набор 28.11.88. Подп. К печ. 16.08,89. АО6016.
Формат 84X108/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура тип бодони. Печать и Усл.
печ. л. 15.96. Усл. кр,-отт. 18,73. Уч.-изд. л. 17,076. Изд. ЛЬ 14387, Тираж
50000 Заказ 376. Цена 1 р. 30 к. Издательство «Искусство». 103009 Москва,
Собиновский пер., 3,
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая
образцовая типография» Государственного комитета CCСP по печати. 113054,
Валовая, 28.
     
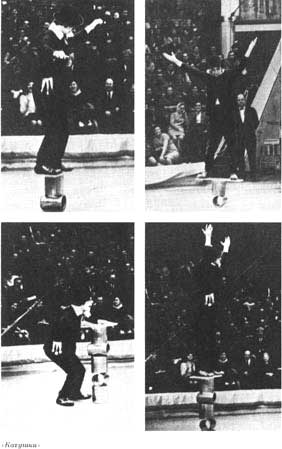 
 
  
     
 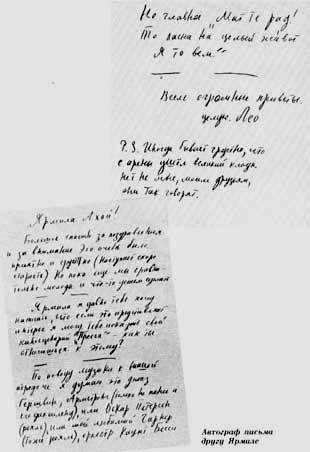    
|